СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ У РИМЛЯН
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ У РИМЛЯН
…Природа породила нас с тем, чтобы мы казались созданными не для развлечений и шуток, но для суровости и, так сказать, для более важных и более значительных стремлений. Развлечения и шутки нам, конечно, дозволены, но так же, как сон и другие виды отдыха: тогда лишь, когда мы уже совершили важные и ответственные дела.
Цицерон. Об обязанностях, I, 103
Отдых — после дел, говорила римская пословица. Свободным временем римляне пользовались по-разному. Люди образованные, с высокими духовными интересами посвящали себя науке или литературе, не считая это «делами», а рассматривая скорее как досуг, как «отдохновение духа». Так что отдыхать для римлян отнюдь не значило ничего не делать. Выбор занятий был широкий: спорт, охота, беседы и особенно посещение зрелищ. Зрелищ было много, и каждый мог отыскать то, которое ему было больше всего по душе: театр, бои гладиаторов, гонки на колесницах, выступления акробатов. Иногда отправлялись просто подивиться на какого-нибудь экзотического дикого зверя. Одни искали тишины и покоя, другие — шумных, неистовых развлечений. Одни удалялись на отдых из города в деревню, к себе в поместье, а иных манили к себе соблазны больших городов.
Впрочем, поездки за город требовали целого дня, а то и нескольких дней. Случалось же, что выпадали только свободные часы и надо было уметь правильно их использовать, чтобы расслабиться и развлечься. Такие часы можно было посвятить игре в мяч, которой римляне предавались еще охотнее, чем греки. Играли и взрослые, и молодежь. Гораций (Сатиры, I, 5), описывая, как он вместе с Вергилием, Варием и другими сопровождал Мецената до города Брундизий, вспоминает, что Меценат как-то отправился играть в мяч, у самого же поэта болели глаза, и он не принимал участия в игре. Зато в другой сатире он рассказывает, как ему завидовали, когда он играл с Меценатом или вместе с ним смотрел на игру:
Участницы спортивных состязаний в «бикини»
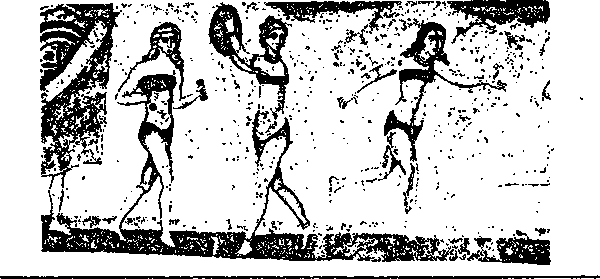
…Покажусь с Меценатом в театре
Или на Марсовом поле, — все в голос: «Любимец Фортуны!»
Гораций. Сатиры, II, 6
Правила игры в мяч были в Риме, по всей вероятности, такими же, как и в Греции, а в самой игре видели хорошее средство поддерживать себя в подобающей физической форме.
Главной спортивной площадкой жителей Вечного города, которой все могли пользоваться, было Марсово поле, а также комиций, т. е. место на Форуме, где проходили народные собрания. Спортивные площадки были и при термах, а землевладельцы устраивали их у себя в поместьях.
Заведений типа палестры или гимнасия Рим, как уже говорилось, не знал. До некоторой степени их заменяли термы, доставлявшие своим посетителям намного больше удобств и удовольствия. Благодаря этому термы стали со временем местом встреч представителей римского модного света.
Но прежде чем стали строить роскошные термы, римляне в отличие от греков уже почти повсеместно имели в домах ванные комнаты — небольшие, скромно обставленные, служившие главным образом для мытья рук и ног, ведь полное омовение, если верить Сенеке, римляне совершали не чаще чем раз в восемь дней, в нундины (Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LXXXVI, 12). В III в. до н. э. стали строить по греческому образцу общественные бани. Там за небольшую плату мылась беднота, не имевшая у себя дома даже скромнейших приспособлений для омовений. Как и в Греции, общественные бани были собственностью или города (и тогда вся плата шла в городскую казну), или частного владельца, взимавшего деньги с посетителей через своего доверенного. Только в I в. до н. э. Марк Випсаний Агриппа воздвиг первые термы, имевшие мало общего с примитивными и жалкими общественными банями былых времен. Термы предназначались не только для купаний: при них существовали спортивные площадки, комнаты отдыха — наподобие греческих экседр, а впоследствии появились даже буфеты и библиотеки. Однако в противоположность греческим гимнасиям римские термы были прежде всего местом приятных купаний, отдыха и непринужденного общения, а не физической подготовки будущих воинов, — спортивные площадки, портики и т. п. имели лишь вспомогательные функции.
По своему внутреннему устройству термы в известной мере напоминали палестры или гимнасии. У входа стоял гардеробщик — капсарий, которому посетители сдавали на хранение деньги и драгоценности, например кольца — их тогда носили все. В термах нередко орудовали «баланоклепты» — особые банные воры, так что оставлять дорогие вещи капсарию было во всех отношениях безопаснее. Затем посетители входили в раздевалку, а оттуда в маленькую натопленную комнату — тепидарий, где организм постепенно подготавливался к горячим ваннам в кальдарии. В длинной светлой комнате с куполообразным сводом, в так называемом фригидарии, находились бассейны с холодной водой. В первых термах в кальдарии стояло лишь несколько ванн на одного человека каждая; в дальнейшем стали строить обширные плавательные бассейны с горячей водой. Со временем появился и душ. Пока душа не было, римлян поливали горячей водой прислуживавшие им в термах рабы.
Помимо ванн и бассейнов с горячей и теплой водой существовали и парные — судатории, устроенные, так же как и фригидарии, в просторных светлых помещениях с высокими куполообразными потолками. При парных были маленькие комнаты, где тело умащали елеем. В отдельных кабинах размещались «сидячие» ванны. Все необходимое для бани — сосуды с оливковым маслом, скребки, простыни — приносили римлянам сопровождавшие их рабы. Была в термах и местная прислуга, банщики, помогавшие посетителям за определенную мзду, но далеко не все, кто ходил в термы, могли себе это позволить.
Античный биограф императора Адриана приводит такую историю. Как-то раз в термах император обратил внимание на странное поведение одного человека, когда тот терся плечами о стены кальдария. Это был старый, заслуженный легионер; он объяснил, что не в состоянии заплатить рабу, который бы сделал ему массаж и почистил скребком, поэтому ему и приходится поступать так, как только что видел император. Тогда Адриан тут же дал ему денег, чтобы тот мог оплатить любые услуги банщиков. На следующий день, придя в термы, император с изумлением обнаружил множество людей, которые, стоя у стен, терлись спинами о камень, как тот ветеран. Без сомнения, они надеялись, что и к ним император проявит великодушие. Но их ждало разочарование: Адриан удостоил их лишь советом тереть друг другу спину по очереди (Элий Спартиан. Адриан, 17).
Важным техническим усовершенствованием в устройстве терм было обеспечение водой из источников посредством акведуков. Позднее в термах было введено и своего рода центральное отопление: из подвального помещения — гипокаустерия — нагретый воздух по трубам поступал в комнаты для теплых и горячих купаний. Изобретателем такой системы отопления был, по всей вероятности, Сергий Ората в I в. до н. э. (Плиний Старший. Естественная история, IX, 168).
Агриппа не только возвел в Риме первые термы, но и позволил римлянам в год, когда он был городским эдилом (33 г. до н. э.), посещать их бесплатно. В дальнейшем было построено много других терм — роскошных, комфортабельных, позволяющих посетителям провести время с пользой и удовольствием, особенно с тех пор, как при термах были открыты библиотеки: так, при термах Каракаллы их было даже две. За термами Агриппы последовали термы Нерона на Марсовом поле, термы Тита, возведенные близ Золотого дома Нерона, термы Домициана на Авентинском холме. Во II в. н. э. Рим обогатился термами Траяна, в начале III в. — термами Каракаллы; общая площадь всех построек превышала 11 га. Еще через сто лет на Квиринальском холме были построены термы Константина. Во все эти термы вход был платным — одно посещение обходилось взрослым римлянам в 0,25 асса; женщинам доступ в термы стоил несколько дороже; для детей вход был свободный. Иногда, из соображений благотворительности и для усиления своих политических позиций в народе, некоторые императоры вводили в тех или иных случаях бесплатное пользование термами.
В целом термы были доступны для всех, но для каждой группы посетителей были установлены определенные часы. Согласно одним источникам, термы открывались не раньше пяти часов дня по римскому времени, т. е. около 10–11 часов утра по нашему времени. По другим источникам, император Адриан разрешал совершать омовения в термах до седьмого часа, т. е. до полудня, только больным. Очевидно, в эти же ранние часы посещали термы и женщины, если, однако, для них не существовало отдельных комнат для купаний. После восьмого часа, т. е. после 13 часов по нашему времени, собирались мужчины. Некоторые банные заведения в провинции оставались открыты вплоть до самого позднего времени, даже до полуночи.
Термы Каракаллы. Реконструкция тепидария

В некоторые периоды, например при Домициане и при Траяне, женщины могли пользоваться термами в те же часы, что и мужчины. Это зачастую вызывало общественное недовольство, и женщины, заботившиеся о своей репутации, предпочитали совершать омовения в частных банях. Другие же отнюдь не желали отказываться от приятных купаний, занятий спортом и светского общения, для которого в термах были созданы все условия. В полном соответствии с духом времени женщины и в термах вели себя совершенно свободно, так что дело нередко доходило до злоупотреблений и скандалов. Рост общественного недовольства заставил верховную власть вмешаться: император Адриан велел женщинам и мужчинам совершать омовения в термах в разные часы. Это распоряжение не смогло, по-видимому, сразу же ликвидировать сомнительные обычаи; и Марку Аврелию, и Александру Северу пришлось впоследствии не раз вмешиваться, издавая новые приказы, регулирующие порядок посещения терм.
Со временем возросли требования и к внутреннему оформлению терм, так что их отделка приобретала все большую художественную ценность: появились мозаичные полы, стенные росписи, скульптура. Многое из этого сохранилось и свидетельствует о таланте и вкусе тогдашних архитекторов и подрядчиков. Известно, что статуя Аполлона Бельведерского украшала некогда термы Каракаллы, а знаменитая скульптурная группа Лаокоона располагалась в термах Траяна. Римляне были очень привязаны к этим произведениям искусства, с которыми они встречались всякий раз, когда приходили отдохнуть в термы. И когда Тиберий однажды забрал себе из терм Агриппы стоявшего там лисиппова Апоксиомена — молодого атлета, скребком счищающего с руки песок и пыль, возмущенный этим народ заставил принцепса возвратить статую на прежнее место.
Провинциальные города отличались не меньшими амбициями, поэтому строить термы там поручали самым знаменитым архитекторам. Одного из таких архитекторов и построенные им термы восхваляет Лукиан в своем диалоге «Гиппий, или Бани»:
«Речь идет о предмете весьма обыкновенном и в современной жизни очень распространенном — об устройстве бань. Однако удивительно, сколько продуманности, сколько ума даже в этой обычной постройке. Место для нее было отведено неровное и представляло собой крутой склон, подымаясь почти отвесно. Приступая к работе, Гиппий прежде всего сровнял место и поднял одну чрезмерно низкую сторону его вровень с другой. Подведя надежную опору под все здание, он обеспечил основной кладкой прочность и безопасность воздвигаемой постройки, а верхнюю часть холма сильно срезал и для надежности укрепил, чтобы усилить все сооружение в целом. (…)
Высокий вход с широкими ступенями, скорее пологими, чем крутыми, — для удобства входящих. Посетителя принимает огромный общий зал, достаточный, чтобы там могли ожидать слуги и провожатые, и расположенный слева от ряда роскошно отделанных покоев: и они, конечно, очень уместны в банях, такие укромные уголки, веселые и залитые светом. Далее, примыкая к ним, находится второй зал — излишний, что касается купаний, но необходимый, поскольку речь идет о приеме самых богатых посетителей. За этим помещением с двух сторон тянутся комнаты для раздевающихся, где они оставляют одежду, а посередине расположено помещение высокое-превысокое и светлое-пресветлое, с тремя водоемами холодной воды, одетое лаконским мрамором. Здесь два изваяния из белого мрамора старинной работы — одно Гигиеи, богини здоровья, другое — Асклепия.
Потом вы попадаете в умеренно нагретую комнату, продолговатую и с двух сторон закругленную, встречающую вас ласковым теплом. За нею, справа, другая — очень хорошо освещенная и готовая к услугам тех, кто хотел бы умаститься, — принимает возвращающихся из палестры. Оба входа в нее облицованы прекрасным фригийским мрамором. К ней примыкает далее новый покой, из всех покоев прекраснейший: и постоять в нем можно, и посидеть с величайшими удобствами, и замешкаться без малейшего опасения, и поваляться с превеликой пользой, — он также весь, до самого потолка, сверкает фригийским мрамором. Сейчас же за этим покоем начинается нагретый проход, выложенный нумидийским камнем. Помещение, в которое он ведет, прелестно, все изобилует светом и как будто пурпуром разукрашено; оно также предлагает посетителю три теплые ванны.
Вымывшись, не надо возвращаться снова через те же самые комнаты, но можно выйти кратчайшим путем в прохладный покой через умеренно нагретое помещение. И повсюду льются обильные потоки света, и белый день проникает во все покои. К тому же высота, ширина и длина соразмерны друг другу, и везде встречаете вы так много изящества и красоты. (…)
Главным образом, пожалуй, это достигнуто здесь обилием яркого света и остроумным расположением окон. Ибо Гиппий, как настоящий мудрец, устроил так, что помещение с холодными водоемами выходит на север, хотя остается в то же время доступным и южному ветру, — а те части, для которых нужно много тепла, обратил на юг, на восток и на запад. (…)…Удивительный Гиппий показал нам в этом своем произведении все достоинства, какими должны обладать бани: они благоустроены, удобны, светлы; все размеры отдельных частей и целого отвечают друг другу и занимаемому месту; кроме того, они вполне безопасны для здоровья посетителей. И всем прочим они снабжены с большим знанием дела: двумя помещениями, куда можно удалиться, если приключится нужда; большим количеством входных дверей и двумя часами, показывающими время: одни — водяные, звучащие, другие — солнечные» (Лукиан. Гиппий, или Бани, 4–8).
Как мы видим, великий сатирик древности умел ценить роскошь и комфорт современных ему провинциальных бань, радуясь удобствам помещений и обилию солнечного света. Иначе смотрели на это те, кто подобно Сенеке с печалью и гневом наблюдал изнеженные нравы римлян эпохи империи. Философы-стоики без устали напоминали согражданам о том, сколь неприхотливы и скромны в быту были их предки, римляне старых добрых времен — времен республики. Они довольствовались малым и отнюдь не стремились проводить досуг среди роскоши и неги, расслабляться, превращать бани в дворцы.
Обо всем этом размышляет Сенека, оказавшись в деревне, в поместье некоего Эгиала, которое в далеком прошлом принадлежало великому римскому полководцу Публию Сципиону Африканскому Старшему. Думая о судьбе старого римлянина, уединившегося некогда в своем поместье, среди простой, почти аскетической обстановки, философ не может не предаваться своим всегдашним рассуждениям об испорченных нравах римлян эпохи империи. Так ли жили их отцы и деды? Старинный быт, быт Сципиона Африканского, был суров и непритязателен.
«Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведенные с обеих сторон виллы как защитные укрепления, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско. Видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних: ведь нашим предкам казалось, что нет тепла без темноты.
Большим удовольствием было для меня созерцать нравы Сципиона и наши нравы. (…) Кто бы теперь вытерпел такое мытье? Любой сочтет себя убогим бедняком, если стены вокруг него не блистают большими драгоценными кругами (вероятно, круги из наборных плит разноцветного мрамора. — Прим. пер.), если александрийский мрамор не оттеняет нумидийские наборные плиты, если их не покрывает сплошь тщательно положенный и пестрый, как роспись, воск, если кровля не из стекла, если фасийский камень, прежде бывший редким украшением в каком-нибудь храме, не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, и если вода льется не из серебряных кранов. Но до сих пор я говорил о банях для плебеев, — а что если я возьму купальни для вольноотпущенников? Сколько там изваяний, сколько колонн, ничего не поддерживающих и поставленных для украшения, чтобы дороже стоило! Сколько ступеней, по которым с шумом сбегает вода! Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем ступать иначе как по самоцветам.
В здешней Сципионовой бане окна крохотные, высеченные в камне — скорее щели, чем окошки… А теперь называют тараканьей дырой ту баню, которая устроена не так, чтобы солнце целый день проникало в широченные окна, не так, чтобы в ней можно было мыться и загорать одновременно и чтобы из ванны открывался вид на поля и море. И вот те бани, на посвященье которых сбегалась восхищенная толпа, переходят в число устаревших, едва только роскошь, желая самое себя перещеголять, придумает что-нибудь новое. А прежде бань было мало, и ничем их не украшали: да и зачем было украшать грошовое заведение, придуманное для пользы, а не для удовольствия? В них не подливали все время воду, не бежали свежие струи, как будто из горячего источника; и не так было важно, прозрачна ли вода, в которой смывали с себя грязь. Но, правые боги, как приятно войти в эти темные бани, под простою крышей!..
А ведь кое-кто сейчас назвал бы Сципиона деревенщиной за то, что его парильня не освещалась солнцем через зеркальные окна и что он не пекся на ярком свету и не ждал, пока сварится заживо в бане. Вот несчастный человек! Да он жить не умеет! Моется непроцеженной водой, чаще всего мутной и, в сильные дожди, чуть ли не илистой! И было для него нисколько не важно, чем мыться: ведь он приходил смывать пот, а не притиранья.
Что, по-твоему, сказали бы теперь? — „Я не завидую Сципиону: он и вправду жил в ссылке, если так мылся“. — А если бы ты узнал, что он и мылся-то не каждый день! Ведь те, кто сохранил преданье о старинных нравах Города, говорят, что руки и ноги, которые пачкаются в работе, мыли ежедневно, а все тело — раз в восемь дней. — Тут кто-нибудь скажет: „Ясное дело, как они были грязны! Чем от них пахло, по-твоему?“ — Солдатской службой, трудом, мужем! Когда придумали чистые бани, люди стали грязнее. Когда Гораций Флакк намерен описать человека гнусного и всем известного своей изнеженностью, что он говорит?
„Пахнет духами Букилл…“
А покажи Букилла теперь: да он покажется вонючим, как козел… Теперь мало душиться — надо делать это по два-три раза на день, чтобы аромат не улетучился. Удивительно ли, что такие люди похваляются им, словно своим собственным запахом?» (Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LXXXVI, 1 —13).
Внутри терм, в комнатах отдыха можно было обрести тишину и покой, даже сосредоточиться. Снаружи же, где находились спортивные площадки и повсюду вертелись мелкие торговцы, расхваливая свой товар, стоял вечный шум, то и дело раздавались громкие крики, и нужно было иметь немалую силу духа и самодисциплину, чтобы и там пытаться продолжать творческую работу. Оказавшись как-то раз в курортной местности в городе Байи, куда съезжались для лечения многие богатые римляне, Сенека описывает в одном из писем свои впечатления от тамошних бань и царившей там обстановки:
«Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина! Сейчас вокруг меня со всех сторон — многоголосый крик: ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки, когда они трудятся или делают вид, что трудятся, я слышу их стоны; когда они задержат дыхание, выдохи их пронзительны, как свист. Попадется бездельник, довольный самым простым умащением, — я слышу удары ладоней по спине… А если появятся игроки в мяч и начнут считать броски, — тут уж все кончено. Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Прибавь и тех, кто с оглушительным плеском плюхается в бассейн. (…) К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сластями и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликающие товар.
Ты скажешь мне: „Ты железный человек! Ты, видно, глух, если сохраняешь стойкость духа среди всех этих разноголосых нестройных криков…“ — Нет, клянусь богами, я обращаю на этот гомон не больше внимания, чем на плеск ручья или шум водопада… По-моему, голос мешает больше, чем шум, потому что отвлекает душу, тогда как шум только наполняет слух и бьет по ушам.
(…) Но я уже так закалился, что мог бы слушать даже начальника над гребцами, когда он противным голосом отсчитывает такт. Ведь я принуждаю свой, дух сосредоточиться на себе и ни на что внешнее не отвлекаться». И все же курорт в Байях был явно неподходящим местом для интеллектуальных занятий: сама атмосфера, наполненная не только разноголосым шумом, но и духом развлечений, игр, флирта, пересиливала закаленную волю философа-стоика. В конце письма Сенека задает себе вопрос и сам же на него отвечает: «Но разве не лучше иногда побыть вдали от шума? — Признаюсь, ты прав. И я переберусь с этого места: ведь я хотел только испытать себя и закалиться» (Там же, LVI).
Предметы туалета. I в. н. э.
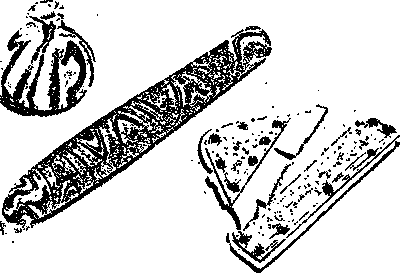
Мы посвятили так много места термам потому, что именно там римляне охотнее всего проводили свое свободное время. Частые купания в термах считались в Риме «хорошим тоном», ведь там собирался весь модный свет. Люди общались, завязывали и поддерживали знакомства. Приходили и любители спортивных состязаний и игр, общительные интеллектуалы, светские люди, поэты, искавшие слушателей, и просто любопытные, желавшие увидеть воочию своих знаменитых сограждан, особенно ученых и писателей. Там встречались и пожилые люди, пришедшие взбодриться и отдохнуть, повидать давних знакомых и побеседовать на серьезные темы; слышны были и голоса молодежи, жадной до развлечений, которых в термах можно было найти множество. Попадались и прихлебатели, готовые навязывать свои услуги какому-нибудь щедрому богачу.
Повсюду, будь то в Риме, в другом италийском городе или в провинции, обстановка в термах была одна и та же: нередко возникали ссоры, перебранки, скандалы и даже рукоприкладства. Если мы перенесемся в Египет, в Оксиринх, то один из местных папирусов расскажет нам о нашумевшей драке в тамошней бане, после чего некая женщина, участница конфликта, подала царю Птолемею жалобу на свою обидчицу: женщины не поделили ванну и вцепились друг другу в волосы, староста же деревни, к которому пострадавшая обратилась ища справедливости, явно встал на сторону зачинщицы драки и даже приказал взять истицу под стражу на целых четыре дня. Теперь обиженная женщина взывала к царю, чтобы тот еще раз рассмотрел дело и помог ей возместить убытки. Перед нами красноречивая картина нравов, характерная, очевидно, не для одного только египетского городка Оксиринха.
Однако возвратимся в Рим. Помимо купаний излюбленным видом отдыха римлян была охота на диких зверей и птиц. Есть также все основания предполагать, что и у римлян были различные забавы, игры, которым они могли предаваться как дома, так и в гостях, на пирах. К играм невинным, не вызывающим опасного азарта, относились всякого рода загадки и головоломки. Ими тешились и взрослые, и молодежь. Например, двое играющих быстро показывали остальным по нескольку пальцев, и те должны были сразу же сказать, сколько всего пальцев было показано. Эта простейшая игра так и называлась «мелькание пальцев». Очень популярна была и игра «голова — корабль»: надо было угадать, какой стороной упадет подброшенная вверх монета. Играли также в чет и нечет, подбрасывая некоторое количество орехов, камешков или игральных костей.
Гораздо меньше мы знаем об игре «двенадцать линий». Играли на деревянной или каменной доске, расчерченной на 12 квадратов или при помощи 12 линий. Правила игры нам не известны; на сохранившихся досках можно обнаружить всегда по шесть шестибуквенных слов; на одной каменной плите из Остии найдены два столбца из трех строк каждый, в каждой строке шесть раз повторяется одна и та же буква: возможно, что эта плита помогала обучать игре начинающих.
Знали римляне и игру, похожую на шашки: на большой доске двое партнеров передвигали по определенным правилам игральные камешки, кости или фигурки, называвшиеся «латрункули» — наемные воины. Существовало, по всей видимости, множество вариантов этой игры, хотя подробностей мы, к сожалению, не знаем.
В кости римляне играли так же, как и греки, определяя победителя по числу очков, выпавших при бросании костей. Сама игральная кость могла быть маленьким кубиком или шестигранником с углублениями на гранях. Самый неудачный бросок римляне называли «собакой», как и жители Эллады, самый лучший — «Венерой». Азартная игра в кости была в принципе запрещена в течение всего года за исключением праздника Сатурналий. Однако запреты эти нарушались, и нарушали их как раз те, кто их вводил, особенно в эпоху империи. Об этом язвительно писал Ювенал:
…Здесь мы легко извиняем богатство, лишь бедным
Стыдно и в кости играть, и похабничать стыдно, когда же
Этим займется богач, — прослывет и веселым, и ловким.
Ювенал. Сатиры, XI, 176–178
Как бы то ни было, римляне продолжали увлекаться азартными играми, теряя подчас целые состояния. Из видных политических деятелей Рима в кости любили играть Публий Муций Сцевола, Катон Старший Цензор, Катон Младший Утический, Сципион Африканский Младший, Катилина, Цезарь, Помпей и многие другие. Для римских императоров игра в кости была постоянным развлечением, давала отдых от нелегких государственных дел и не менее сложных и запутанных — семейных. Играли Октавиан Август, Тиберий, Калигула. Замечательным игроком был, насколько можно судить, император Клавдий: по свидетельству Светония, «играл он и в поездках, приспособив доску к коляске так, чтобы кости не смешивались». Он даже написал целую книгу — руководство по игре в кости (Светоний. Божественный Клавдий, 33). С ранней юности увлекались игрой в кости также Нерон, Вителлий, Веспасиан, Домициан и их преемники. Есть немало сведений и о писателях римских, охотно забавлявшихся таким образом.
Во всякой азартной игре нередки были мошенничества, обман. Если сегодня встречаются фальшивые карты, то в древности приходилось опасаться фальшивых костей: их изготовляли так, чтобы они были тяжелее с одной стороны, т. е. можно было предвидеть, какой гранью вверх они упадут. Бесчестным и коварным в игре, как и во многих других областях повседневной жизни, проявил себя, например, император Калигула: «Даже из игры в кости не гнушался он извлекать прибыль, пускаясь и на плутовство, и на ложные клятвы» (Светоний. Гай Калигула, 41).
Борьба властей против азартных игр то и дело возобновлялась. Наказания были предусмотрены и для игроков, и для тех, кто бился об заклад и тем самым втягивал в игру других, и, наконец, для держателей всякого рода притонов, владельцев гостиниц и трактиров, отводивших особые комнаты для азартных игроков. Однако, как уже сказано, эта борьба приносила мало результатов, ведь против азартных игр воевал, например, Октавиан Август, который сам был страстным игроком, предаваясь любимому занятию открыто и тогда, когда для всех прочих римлян игра в кости была по его же приказу запрещена. Рассказывая своему пасынку Тиберию об одном проведенном дне, Август собственноручно писал: «Играли так, что доска не остывала». Как сообщает Светоний, однажды принцепс проиграл в кости целых 20 тыс. сестерциев (Светоний. Божественный Август, 71).
Не было недостатка в Риме и других городах в трактирах и пивных, где можно было посидеть и побеседовать за вином, иногда даже подогретым, или иным подкрепляющим напитком. Трактиры подразделялись на различные категории: в заведениях низшего разряда были скамьи, вделанные в стены, в трактирах же «для гостей получше» стояли стулья или мраморные ложа, и эти различия бесспорно сказывались и при расчетах. Заведения такого рода держали главным образом вольноотпущенники, которые подчас наживали этим путем немалое состояние. Трактиры, пивные, харчевни были открыты с утра и почти до утра следующего дня. Издали зазывали туда красочные вывески, которыми часто служили какие-нибудь эмблемы с соответствующим девизом. Так, у дверей одной из пивных в Помпеях был нарисован слон, что подтверждала надпись: «Ситий вернул силы слону». Именно в таких трактирах и пивных существовали особые комнаты для азартных игр. В эпоху империи власти не раз пытались ликвидировать сомнительные заведения — отчасти борясь против разорительных и безнравственных игр, но еще больше опасаясь возникновения там чего-то вроде политических клубов оппозиции, где могли бы вызревать заговоры против верховного правителя и готовиться покушения на его особу.
Поддерживая торговые и иные связи со многими далекими странами и народами, римляне охотно знакомились со всевозможными редкостями и новинками, привозимыми оттуда. Специальных музеев, выставок в современном значении этих понятий в Риме не было: произведения искусства, статуи, памятники окружали древних повсюду. Римляне жили с ними рядом, привязывались к ним и энергично противились любым попыткам перенести, например, какое-нибудь изваяние на новое место. Впрочем, время от времени в городе появлялась какая-либо новинка, и множество людей сходилось, чтобы взглянуть на нее. Это могли быть редкие, прежде не известные здесь образцы растений; могли быть и экзотические дикие звери; это, наконец, могли быть и люди — с непривычным цветом кожи, строением тела, странными, причудливыми чертами лица.
С редкими, вызывавшими любопытство породами деревьев и кустарников римляне чаще всего знакомились тогда, когда из победоносного похода триумфально возвращался в город какой-нибудь полководец. Согласно Плинию Старшему (Естественная история, XII, 111), во время своего триумфа Помпей Великий показал римлянам образцы черного эбенового дерева, а император Веспасиан, вернувшись из Иудеи, привез с собой как новинку бальзамовый куст.
Еще большей приманкой для зрителей были, как и сегодня, дикие звери. С ними римляне также знакомились постепенно, по мере расширения сферы своих завоевательных походов и торговых экспедиций. Зверей в Рим привозили все больше, потребность в них росла, ведь бои гладиаторов с дикими животными уже стали любимым развлечением для жителей Вечного города. Бывали и другие поводы: так, со слонами римляне встретились впервые во время войны с Пирром, царем Эпира, в 280 г. до н. э. Других зверей в первый раз показали римлянам в театре или амфитеатре, устраивая публичные зрелища. При Октавиане Августе любое экзотическое животное, только что привезенное в Рим, сразу же выставляли на всеобщее обозрение. Например, носорога можно было увидеть на Форуме близ Септы Юлия, тигра — на сцене театра, а змею длиной в 50 локтей, т. е. около 20 м, — на комиции. Показывали также зверей дрессированных: в дрессуре животных римляне достигли уже больших успехов, поскольку известно, что звери умели даже ходить по канату.
На всеобщее обозрение выставлялись не только живые звери, но и скелеты и отдельные кости, необычные по своим размерам и вызывавшие в памяти древние мифы. В 58 г. до н. э. Марк Эмилий Скавр доставил из Иудеи в Рим скелет некоего морского чудовища: традиция утверждала, что это были останки того самого дракона, которому должны были выдать на съедение Андромеду! Обеспеченное такой рекламой зрелище, естественно, вызвало к себе огромный интерес. В правление Александра Севера в театре был выставлен скелет кита. С удивлением рассматривали римляне также невиданных прежде крокодилов и бегемота. Однако все эти показы служили лишь для того, чтобы удовлетворить любопытство зевак; для целей научных, исследовательских все эти находки не привлекались. В этой связи стоит отметить тот, в сущности, исследовательский интерес, который Тиберий проявил к одному из раритетов, присланных ему из Малой Азии: это был зуб неизвестного существа; длина его достигала 30 см; он был обнаружен среди других огромных костей в некоей расщелине после крупного землетрясения 17 г. н. э. Люди, желавшие угодить своим подарком правителю, готовы были отослать в Рим все, что было найдено, но Тиберий, не желая нарушать покой останков неведомого гиганта, распорядился, напротив, возвратить зуб назад и положить на то место, где его обнаружили. Заслуживает вместе с тем внимания тот факт, что перед отправкой зуба из Рима Тиберий вызвал математика Пульхра, дабы тот рассчитал по величине зуба размеры той головы, к которой этот зуб мог относиться.
То, что каждая новинка, редкость вызывала всеобщее любопытство, — естественно и понятно и даже весьма полезно, ибо будоражила пытливую мысль ученых, знатоков природы. Неприятным явлением было, однако, страстное желание сотен римлян поглазеть на физические уродства, на людей увечных, калек, обделенных судьбой. А ведь и такие «подарки» присылали правителям Рима: так, Августу привезли из Индии человека без рук, а императору Нерону поднесли в дар ребенка нормальных размеров и телосложения, но с четырьмя головами. Римский плебс охотно ходил смотреть на необычайно высоких людей и, наоборот, на карликов — как и в столетия более поздние, в древности маленьких человечков держали в домах ради развлечения и даже показывали их публично. Так, Август вывел на сцену театра мальчика из хорошей семьи в Ликии, который, уже став подростком, имел рост около 60 см и весил не более 5,6 кг, но, несмотря на такой ничтожно малый рост и вес, отличался громким, звучным голосом. Зато Тиберий получил в подарок от парфянского царя Артабана III некоего еврея по имени Элеазар — рост его доходил почти до трех метров. Такого же необычайно высокого человека привезли императору Клавдию из Аравии несколько лет спустя. Такие физиологические аномалии случаются и в наши дни, но их откровенное публичное созерцание представлялось бы нашим современникам величайшей бестактностью; римляне, по всей видимости, имели об этом иное понятие.
Существовали и другие сомнительные с сегодняшней точки зрения обычаи. В Риме был рынок, где всякий мог купить себе для забавы все, что было уродливого и притом необычного: людей, родившихся без рук или ног, одноглазых или трехглазых, с бесформенными головами, наконец, даже «сиамских близнецов» — с двумя головами, двумя туловищами, четырьмя руками, но вполне нормальной нижней частью тела. Там же, вероятно, сбывали с рук уродливых, родившихся с резко выраженными дефектами детей тех несчастных матерей, про которых римляне говорили, что та или иная из них произвела на свет «обезьянку» или «младенца с песьей головой».
Сохраняли и выставляли напоказ даже тела умерших людей, отличавшихся очень высоким ростом или телосложением, какого не бывает у человека нормального. В эпоху принципата Августа в садах Саллюстия в Риме можно было видеть тела супружеской пары великанов; известны и их имена: Пузион и Секундилла.
Плиний Старший пишет, что сам наблюдал однажды сохраненные и выставленные таким образом тела карликов. Мы знаем, что у древних были разные способы консервации мертвых тел, поэтому когда в Рим при Клавдии отправили некое неведомое существо, называвшееся «гиппокентавр», но по дороге, в Египте, оно погибло, тело его законсервировали в меде и в таком виде привезли в конце концов в столицу империи, где и выставили в императорском дворце. Точно так же два века спустя некоего гиппокентавра прислали из Антиохии в Рим законсервированным в соли, дабы император Константин мог на него подивиться.
Но даже такие зрелища, такие «выставки» не способны были насытить тягу римлян к интересному и развлекательному; особенно это касалось, конечно же, людей ученых, интеллектуалов, литераторов, которых не так уж привлекали к себе скелеты крокодилов или живые карлики. Время, свободное от повседневных обязанностей, они проводили за чтением, литературным трудом или просто отдыхая в тиши своих поместий. Интерес к бурной интеллектуальной жизни, к публичным чтениям, дискуссиям пробудили у римлян греческие философы и грамматики, десятками переселявшиеся в Италию, и прежде всего в Рим, начиная с середины II в. до н. э. В 167 г. до н. э. перед узким кругом слушателей выступил Кратет с острова Сицилия, а еще 12 лет спустя прибыл в Рим философ-платоник Карнеад из Кирены вместе со стоиком Диогеном и перипатетиком Критолаем, которые были посланы жителями Афин по делам государства. Они не ограничились исполнением возложенных на них поручений, но провели также публичные философские диспуты, собравшие множество слушателей; даже молодежь отказалась от состязаний на Марсовом поле ради того, чтобы познакомиться с новыми учениями. Эти невиданные прежде явления в общественной жизни Рима серьезно обеспокоили сенат, и все греческие философы и риторы были высланы из города: в греческих и восточных влияниях римская знать увидела опасность для традиционного уклада римского общества.
Представители греческой культуры оказали несомненное влияние на развитие литературы и науки в Риме, они же и положили начало литературной критике. Подробнее о рецитациях — публичных чтениях, а затем обсуждениях поэтических сочинений в Риме мы уже говорили, рассказывая о книгах и писательстве. Со временем публичные встречи слушателей с поэтами стали неотъемлемой приметой культурного быта Римской империи. Встречи эти проходили в термах, в портиках, в библиотеке при храме Аполлона или же в частных домах. Устраивали их главным образом в те месяцы, когда было много праздничных дней, связанных со зрелищами: в апреле, июле или августе. Позднее и ораторы стали выступать с речами перед публикой. Многими сведениями о рецитациях мы обязаны Плинию Младшему и его переписке.
Так, на приглашение своего знакомого Туллия Цереала выступить с одной из своих судебных речей «перед многочисленным дружеским собранием» Плиний отвечает согласием, хотя и не скрывает своих сомнений: судебные речи, читаемые вслух вне зала суда, теряют убедительность, в которой и состоит их главное достоинство. В зале суда «оратора воодушевляют и собрание судей, и знаменитые адвокаты, и ожидание исхода, и славное имя не одного актера, и участье слушателей в судьбе сторон. Прибавь жесты говорящего, его манеру войти, ходить взад и вперед — эту живость движений, соответствующую каждому волнению души. Поэтому те, кто говорит сидя, делают уже тем, что они сидят, свою речь слабее и незначительнее… Глаза и руки, так помогающие оратору, читающему не окажут никакой помощи. Не удивительно, если слушатели, не прельщаемые ничем внешним и ничем не задетые, засыпают» (Письма Плиния Младшего, 11,19).
Со временем, однако, Плиний изменил свое мнение о речах, читаемых публично, и теперь уже ему самому приходилось оправдывать свое поведение. «У каждого есть свое основание для публичных чтений, — пишет он некоему Цецилию Целеру, — о своем я тебе уже часто говорил: я хочу, чтобы мне указали на то, что от меня ускользает, а кое-что ведь, конечно, ускользает. Тем удивительнее для меня, что, по твоим словам, некоторые упрекают меня в том, что я вообще читаю свои речи… Я охотно осведомился бы у них, почему они допускают — если только допускают — возможность чтения исторического произведение, которое составляется не для того, чтобы блеснуть красноречием, а чтобы с достоверностью изложить истинные происшествия; трагедии, которая требует не аудитории, а сцены и актеров; лирики, для которой нужен не чтец, а хор и лира. Чтение всего этого вошло уже, однако, в обычай. Следует ли винить того, кто положил этому начало? Кое-кто из наших и греки имели обыкновение читать и свои речи». Далее Плиний подробно описывает свои мотивы, исходя из которых он считает возможным выступать публично: всякому автору необходима критика, чтобы вносить исправления, совершенствоваться в своем искусстве, учиться преодолевать волнение. «Исправляет уже самая мысль о предстоящем чтении; исправляет самый вход в аудиторию; исправляет то, что мы бледнеем, трепещем, оглядываемся». Волнение, робость, даже страх обостряют критическое внимание автора к самому себе, к своему творению. Предпочитая обращаться со своими речами к знатокам, Плиний вполне понимает и тех, кто относится с уважением и к мнению простых, неученых слушателей. «Толпа от самой многочисленности своей приобретает некий большой коллективный здравый смысл, и те, у кого по отдельности рассудка мало, оказавшись вместе, имеют его в изобилии». Суд слушателей — вот то, что необходимо любому писателю, историку или оратору (Там же, VII, 17).
После смерти императора Домициана римское общество вздохнуло свободнее, и в этой атмосфере долгожданного облегчения вновь возрос интерес к рецитациям, к встречам с известными литераторами на публичных чтениях. Мы помним, что, по мнению того же Плиния Младшего, такое внезапное половодье рецитации приобрело вскоре уже чрезмерные, нежелательно широкие масштабы. Это, с одной стороны, грозило ростом дилетантизма, ведь даже плохие, незначительные сочинители старались повсюду отыскать себе слушателей. С другой стороны, слишком частые публичные чтения ослабляли общий интерес к литературе: люди собирались все с меньшей охотой, да и то лишь затем, чтобы поглазеть на знаменитого автора, а не для того, чтобы вникнуть в его текст. Для хорошего, талантливого литератора, ожидавшего, что его произведение вызовет интерес, обсуждение, даже полезную критику, безразличие и вялость слушателей оказывались жестоким, унизительным ударом. «Поэтому, — признает в это время Плиний Младший, — особого одобрения и признания заслуживают те писатели, которым не мешает работать пренебрежительное равнодушие слушателей» (Там же, I, 13).
И все же сам Плиний продолжал иногда выступать с чтением своих произведений, и, как можно заключить из его письма к Кальпурнии Гиспулле (см. там же, IV, 19), зачастую такие рецитации происходили в его же доме, причем его жена страстно любила, когда Плиний читал вслух свои сочинения, и, сидя за занавеской, жадно ловила все похвалы, которыми награждали ее мужа благодарные слушатели. Далеко не каждый хороший поэт или оратор умел читать перед публикой собственные произведения. Сам Плиний считался неплохим чтецом, но свои стихи он, по общему мнению, читал неудачно. Поэтому он в письме советуется со Светонием, своим давним приятелем и также известным писателем, не лучше ли ему, Плинию, поручить чтение своих стихов в кругу близких друзей некоему вольноотпущеннику. Тот, по крайней мере, «будет читать лучше, чем я, если только не будет волноваться» перед лицом многочисленных слушателей. Правда, Плиний не может решить, что же ему самому делать во время такого чтения: «… сидеть ли мне пригвожденным, немым и безучастным или, как некоторые, подчеркивать то, что он будет декламировать, — шепотом, глазами, рукой» (Там же, IX, 34).
Рецитация речи или стихов затягивалась подчас на несколько дней. Свою книгу стихов, не сохранившуюся до наших дней, Плиний прочел за два раза: «Меня вынудило к этому одобрение слушателей» (Там же, VIII, 21). Еще удачнее прошло чтение написанного Плинием в 100 г. н. э. благодарственного панегирика императору Траяну. Автор из скромности решил ограничиться узким кругом друзей в домашней обстановке: «Я не рассылал письменных приглашений, а приглашал лично с оговорками: „если тебе удобно“, „если ты совсем свободен“ (в Риме никто и никогда не бывает совсем свободен, а слушать рецитацию всегда неудобно). Мне доставило большое удовольствие, что, несмотря на это и вдобавок при отвратительной погоде, у меня собирались два дня, а когда я по скромности захотел прекратить рецитацию, то от меня потребовали добавить еще третий день. Мне оказана эта честь или литературе? Я предпочел бы, чтобы литературе, которая почти совсем замерла и только начинает оживать» (Там же, III, 18).
Подобный обычай, или мода, утвердились и при императорском дворе. Хорошо известна страсть, подчас даже болезненная, императора Нерона к публичным выступлениям со своими стихами. Но и его предшественник Клавдий, хотя и не имел таких способностей, все же не раз пытался читать свои книги перед многочисленной аудиторией. Впрочем, первое его выступление прошло не совсем удачно, но отнюдь не по его вине. «Дело в том, — рассказывает Светоний, — что в начале чтения вдруг подломились несколько сидений под каким-то толстяком, вызвав общий хохот». Затем шум унялся, Клавдий продолжал читать, но то и дело останавливался, вспоминал о случившемся «и не мог удержаться от хихиканья» (Светоний. Божественный Клавдий, 41).