Сизиф на каникулах (по мотивам Шанелек). Разговор с Михаилом Маяцким Михаил Ратгауз
Сизиф на каникулах (по мотивам Шанелек). Разговор с Михаилом Маяцким
Михаил Ратгауз
Философ Михаил Маяцкий, живущий и преподающий в Лозанне, – автор книги «Курорт Европа» (французское издание – 2007, русское – 2009), которая анализирует состояние Европы на начало XXI века.
М. Р. – Мне кажется, что лучший текст, который написан о Берлинской школе, – это ваша книга «Курорт Европа», в которой нет практически ни слова про кино. Позвольте я для начала изложу для тех, кто пока ее не прочел (но обязательно должен), некоторые из ее тезисов, как я их понял. Исходной точкой для вашей книги является тот факт, что в постиндустриальной, постмодернистской Европе цивилизация труда сменилась цивилизацией досуга. У европейца образовались залежи свободного времени, которого именно потому ему всегда фатально не хватает. Европа деградировала до курорта, живописной руины. Она зарабатывает на памяти о своем прошлом. Тем временем в Европе свирепствует демон меланхолии. Европеец уже не уверен, что способен изменить мир к лучшему, поэтому перестал действовать вовне, а сконцентрировался на себе: от маниакального потребления и ухода за своей психикой и телом до инфляционных потоков свободного творчества в эстетике DIY. По моей просьбе вы посмотрели фильм Ангелы Шанелек «Моя медленная жизнь». Узнали ли вы в нем ту Европу, которую вы описали? Как вам вообще кино?
М. М. – Ваше прочтение моей скромной книжки идеально иллюстрирует герменевтический тезис о продуктивном непонимании и радикализирует его: сам автор продуктивно не понял свою книгу, не понял, например, что она про Берлинскую школу. Я и правда очень умеренный синефил, не обессудьте. Оттолкнусь от тезиса о том, что «Европа деградировала до курорта». Почему? Во-первых, его нет в книге. И, во-вторых, вы его совершенно обоснованно и объяснимо в нее продуктивно вчитали. Эллино-иудейский проект, которым гордится, а часто и кичится Европа, – это прежде всего techne, это рациональность, это наука и техника, с протестантской трудовой этикой, с гипер-активизмом и науко-технологическим, и геополитическим. Поэтому, когда наметился конец (или, как его назвали некоторые наблюдатели, закат) этого проекта, он воспринялся в том числе и многими европейцами как деградация. А ведь Европа породила отнюдь не только techne, но и skhole (то есть деятельный, умный досуг, давший «школу» и «схоластику»), и epimeleia heautou (то есть заботу о себе). Поэтому отнюдь не все европейцы видят в нынешней эволюции деградацию. Вспомните так хорошо забытых сегодня экзистенциалистов (кстати, поверьте, что они много десятилетий назад написали куда лучшие, чем я, книги о Берлинской школе). Камю (который был, правда, скорее расстригой, чем правоверным экзистенциалистом) видел в профессиональной и бытовой занятости способ ускользнуть от абсурда. Другой способ (он его называет «прыжок») его избегнуть – это обратиться к Богу. Оба этих способа – esquive и saut, то есть ускользание и прыжок, – недостойны человека как существа, способного или даже призванного принять абсурд. Сизиф на вершине, от которого только что ускользнул камень, – счастливый Сизиф. Вот и герои Шанелек – такие сизифы недоделанные. Со времен экзистенциалистов дело только усугубилось: и труд, и религия во многом утратили свою смыслообразующую функцию. Персонажи ничего другого не делают, как только экзистируют. Они испивают чашу сию, лишь изредка отвлекаясь на разные «ускользания». Зритель пытается угадать, какая красная нить прочерчивает их жизни, каковы их ставки, какое дело захватывает их. Но это всё атавизмы – телеологического восприятия судьбы и, как его пандана, линейного классического повествования. Ничего этого нет, или, точнее, есть только в виде маленьких кусочков, обрывков – намерений, порывов, попыток желания.
М. Р. – Да, героям фильмов «берлинцев» трудно действовать. Как правило, они в самом деле больше ждут и томятся. В своей книге вы называете это состояние «беспокойством нерешительности». Чего ждет, по чему томится европеец?
М. М. – Интересно, что герои не понимают себя, но без особого труда понимают друг друга, точнее, легко заносят друг друга в рубрики. Их непонятность, загадочность для самих себя – искусственна. Они боятся придать своим жизням слишком большую определенность, стать кем-то. Они надеются на внешние события, на непредсказуемые повороты. Все, что когда-то было придумано и наговорено Делёзом, Деррида, Бадью о событии – как непредсказуемом, сингулярном, бросающем вызов всякой каузальности, – все это вошло в плоть и кровь европейца. Может показаться, что это противоречит культу успешной карьеры, воспеваемой рекламой, медиа, самим «духом капитализма». Но противоречие это кажущееся. Понятие успеха тоже радикально изменилось. Верность одной профессии, не говоря уже об одной фирме, выглядит сегодня старомодной наивностью. Сегодня за 30–40 лет (столько длится карьера) ни одна профессия не остается неизменной, а многие умирают или рождаются. Поскольку сегодня европеец уже не желает жить, чтобы работать (а работать, чтобы жить, либо не может, либо не уверен, что хочет), то главный его страх – что жизнь пройдет, пока он занят делом. Он абсолютно не боится смерти (в этом изменение по сравнению с экзистенциалистами), смерти, перешедшей для него в епархию биотехнологии, зато боится придать жизни излишнюю и слишком обязывающую его определенность.
М. Р. – Герои «берлинцев» – часто люди без определенных профессий. Это начинающие фотографы, прозаики, или люди, зависшие между разными работами, как Йелла у Петцольда, или просто дезертиры, как в «Бунгало» Кёлера. Вы писали о том, что профессия перестала быть необходимостью, что мы живем в век дилетантизма. В вашей книге есть и другая отличная метафора – «онтологический турист»: человек, который в течение жизни меняет идентичности, не способен ни на чем задержаться.
М. М. – Да, определить себя через профессию, отождествить себя с профессией (я – инженер, я – продавец) сегодня переживается как обеднение себя, как непозволительная саморедукция. Не только провести всю трудовую жизнь на одном рабочем месте (это уже просто немыслимо), но и в одной профессии означает проявить себя как человек без воображения и амбиций. Вы помните, наверное, как немецкое слово Lebenspartner, заменившее в свое время «супруга/супругу», было вытеснено модным Lebensabschnittspartner? Из старомодного «партнера по жизни» получился «партнер по отрезку жизни». Сходный процесс произошел и в профессиональной занятости, и в стиле жизни вообще. При таких бурных изменениях в технологиях общения это и не удивительно. Поколения, не знавшие социальных сетей, были сконфигурированы иначе. Всеобщая интерконнективность не могла не изменить характер быта и характер отношений. Современный европеец не имеет права разрешить себе закоснеть. Запрет на окончательную идентификацию предъявляется ему в разных и часто незаметных формах, но иногда прямо и грубо. Сегодня при приеме на работу работодатель может даже не взглянуть на дипломы и сертификаты, в которые вы вложили годы труда, зато будет очень интересоваться вашей способностью приспосабливаться к новым и всегда меняющимся условиям, менять виды деятельности, работать в команде с переменным составом, овладевать новым функционалом и, по сути, новыми профессиями. Конечно, это не могло не повлиять на само понятие профессионализма. Тип смекалистого и гибкого любителя вытеснил педантичного и психоригидного профессионала с авансцены рынка труда.
М. Р. – В «Моей медленной жизни» есть эпизод со старым французским писателем. Впрочем, его профессия не уточняется. Это некий «большой человек». Мы не видим его, но слышим его голос на диктофоне, который сообщает, что ему больше нечего сказать. Мы говорили с Ангелой Шанелек о том, что европейцы страдают от отсутствия отцовских фигур, в книге вы называете их «пастырями».
М. М. – Да, конечно, смерть Человека – это прежде всего смерть великого человека. После травматичного ХХ века стало, казалось бы, трудно ожидать харизматического лидера. Но вот мы видим приход фаллических вождей типа Берлускони или Путина. Этого, конечно же, не может произойти в Германии, но не всем странам повезло с «денацификацией» (хотя заслуживала ее, разумеется, не одна только Западная Германия). Если взять сферу идей, то мы живем в атмосфере сиротства, когда большие мыслители ушли, не оставив сопоставимых наследников. Было бы смешно полагать, что не стало людей, способных так же масштабно (тонко, изощренно…) мыслить. Нет, очевидно, что изменилось общественное ожидание. Мысль стала более коллективной, более анонимной. В XIX веке исчерпала себя парадигма философских систем. Философия (снова?) стала исследованием – когда она не была коробом для афоризмов, упавших листьев, выпавших из блокнота листов. Постепенно сложился спрос на философию-проповедь, который тоже сошел на нет. Сегодня философия гибридна – термин Бруно Латура[28], он же и служит примером сегодняшнего философствования. У Латура есть, конечно, свои цели и стратегии, но ясно, что ему не хочется быть властителем дум в том же смысле, как Хайдеггеру или Фуко. Самая динамичная сегодня философская площадка – объектноориентированная онтология или спекулятивный реализм (понятия не тождественные, но родственные)[29] – более-менее ацефальная, не имеет вожака, что ни в коей мере ее не умаляет. Само это явление – безлидерство – можно описать в квазирелигиозной терминологии: как отказ от ожидания мессии или просто как усталость от утопий.
М. Р. – Вы уже начали говорить об этом, и все-таки. Не присутствует ли в нашем взгляде на Европу суд великого прошлого над ничтожным настоящим? С каких позиций было бы правильней оценивать современность?
М. М. – Да, несомненно, постоянная тень Классики (будь то Античность, Возрождение, классицизм или… авангард) ностальгически ложится на наши размышления о Европе. Но, как правило, прежняя история предстает более величественной, потому что она описывалась в монументальном жанре (я отсылаю, как вы поняли, к классификации Ницше в эссе «О пользе и вреде истории для жизни»). Этот жанр сегодня существует в Европе почти только в фарсах, написанных для популярных изданий, либо же в националистических агитках. Сравнивать ту историю с протекающей на наших глазах, не учитывая жанрово-риторические различия, и горевать, что нынешняя той в подметки не годится, – нелепо.
М. Р. – У «берлинцев» очень сложное отношение к Германии. Они смотрят мимо немецкой кинотрадиции, они – космополиты. Как вообще в Европе обстоит сейчас дело с чувством национального, «своего»? Говорят, что оно снова возвращается?
М. М. – Но националистические агитки занимают место отнюдь не периферийное: повсеместные дебаты об идентичности, подъем крайне правых партий тому свидетельство. В целом язык политики в Европе изрядно архаичен; политика, обладая собственной инерцией, отстает от совокупного общественного процесса. Отсюда систематическая ложь политиков о возрождении индустриальной Европы, о росте, который вот-вот начнется, о безработице, которая вот-вот резко снизится…
Но это отставание отвечает и определенным архаизирующим явлениям: возрождение старых профессий, антиконсюмеристские практики, введение элементов натурального хозяйства и бартера, возврат к классической модели семьи под влиянием пугающей диверсификации как сексуальности, так и биологического воспроизводства.
М. Р. – Кстати, о сексуальности. Кино «берлинцев» подчеркнуто асексуально. Как вообще обстоит с этим дело в Европе?
М. М. – Кажется, поколенческий маятник качнулся в другую сторону. Молодые люди отчужденно относятся к родителям, для которых сексуальное освобождение – прежде всего, от сексуальных догм и запретов предыдущего поколения (точнее, поколений, поскольку вплоть до середины ХХ века сексуальные нравы изменялись медленно) – служило символом освобождения политического и экономического. Для родителей jouissance[30] был парадигмой любого удовольствия/удовлетворения, тогда как для детей – это один из типов удовольствия, наряду с самыми разными прочими: гастрономическим, музыкальным, коммуникативным, потребительским… Почему, придя к психоаналитику, нужно рассказывать определенные вещи? Почему Маяковский назвал поэму «Про это»? Разве всем было понятно, про что? Для современных молодых секс – не многим более, чем один из обязательных ингредиентов в рецепте любого фильма. Его отсутствие у Шанелек это только подчеркивает. Но у героев фильма (а значит, как минимум, и у некоторых европейцев) и вообще дефицит желания. Они не овладевают профессией, а пробуют себя в ней; но и досуг их столь же неопределен. В отпуск не хочется: и ни от чего не устали, и ни к чему волочить с собой свой абсурд. Интересно при этом, что при найме на работу вашим досугом сегодня могут интересоваться больше, чем заверенными дипломом профессиональ ными навыками, а то, что вы, чего доброго, отсутствуете или недостаточно активничаете в социальных сетях, рискует серьезно насторожить работодателя.
М. Р. – Есть ощущение, что с начала десятых мир подтрясывает. Украина – только одна из таких точек. На улицах городов, давно от этого отвыкших, льется настоящая кровь. Это знак того, что мы вступили в другую эпоху? Если да – как эта эпоха отражается или может отразиться на курорте Европа?
М. М. – После двух мировых войн Европа надолго пацифицировалась. Но на ее периферии конфликты неизбежны. Трудно говорить об украинской трагедии в двух словах. Ужасно, но геополитическая инициатива Путина многих устроила как спасительное упрощение. Глобализация, мультиполярность, когнитивный капитализм, неподконтрольные биотехнологии, всеобщая интерконнективность и текучий модерн – это все как-то запутано. А вот «мы – они» – это ясно, холодная, а если надо, то и горячая война – так-то оно попроще и попонятней. Это такое видение мира, на котором сходятся и гопники, и ястребы в правительствах и штабах. Но раз мы о Европе, то в ней как раз ястребиность и не в почете. Европа делегировала ее своему уже не юному, но все еще бодрому отпрыску – Америке. Сама же она тайно надеялась на многократно объявленный «конец истории», своего рода тихий, домашний либерально-консюмеристский апокалипсис. Отсюда пост-, если не сказать, безисторичность, которой проникнут фильм Шанелек.
М. Р. – Ваша книга публиковалась по главам уже почти 10 лет назад. Есть ли ощущение, что за эти годы европейский проект нащупал или начинает нащупывать новые основания для жизни? Или он вступил в новую фазу растерянности?
М. М. – Что касается постиндустриально-курортного портрета Европы, то он за 10 лет стал банальностью. Когда книжка вышла в 2007 году по-французски, некоторые европейские друзья на меня обиделись. Конечно, социологам и просто внимательным наблюдателям все было ясно уже тогда, но в большинстве своем граждане неутомимо верили, если разобраться, не такому уж и безвредному оптимизму своих политиков: если хотите подарков, сначала выберите в президенты Деда Мороза. Пока срабатывают допотопные популистские лозунги типа «Франция для тех, кто встает рано» или «Работать больше, чтобы получать больше» (Саркози), не говоря уже о бессмысленных, но таких соблазнительных темах, как «национальная идентичность», общество может откладывать на потом концептуальную работу над действительно насущными вопросами. А они таковы. Сегодня достаточно трети общества, чтобы произвести товаров и услуг, достаточных для всего общества; или, при ином раскладе, сегодня достаточно, чтобы работники трудились треть нынешнего рабочего времени, чтобы обеспечить все общество. Но что делать с двумя третями (людей или времени)? Европейцы не хотят идентифицировать себя через труд, но по-другому еще не умеют. После освобождения от труда встанет (и уже встает) вопрос: освобождение для чего? Сизифу тяжело. Но если отнять у него камень, может быть, станет совсем невозможно?
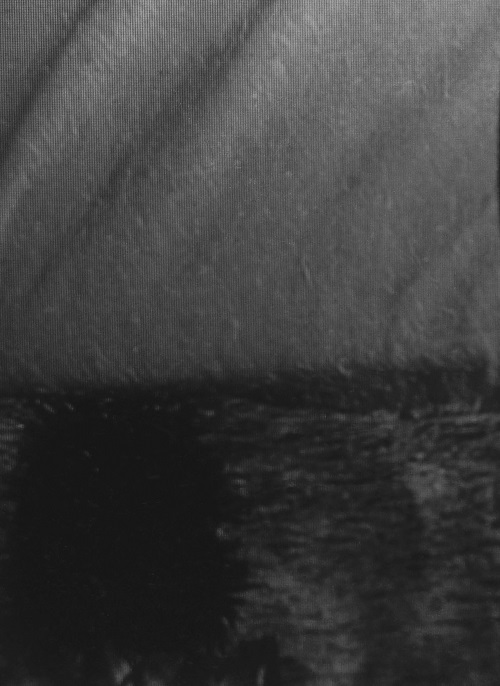

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ За фразой «запрещавшаяся по политическим мотивам» видится тень деспотичного правительства, закрывающего своим гражданам доступ к получению информации, идеям и мнениям, которые воспринимаются как критические,
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ МОТИВАМ В 1989 году указ, вышедший в Тегеране, стал отвратительным напоминанием о религиозной цензуре. Многие увидели в нем призрак далекого прошлого — инквизиции и сожжения еретиков. Смертный приговор, вынесенный аятоллой
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО СЕКСУАЛЬНЫМ МОТИВАМ
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО СЕКСУАЛЬНЫМ МОТИВАМ Изменения в общественных нравах открыли для многих книги, прежде запрещенные за откровенное сексуальное содержание, двери запертых кабинетов, а затем — полки библиотек и книжных магазинов. Многие из этих
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ МОТИВАМ
ЛИТЕРАТУРА, ПРЕСЛЕДОВАВШАЯСЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ МОТИВАМ Масштабный характер законов о непристойности сделал возможным достаточно вольное толкование того, что делает произведение существенно «непристойным». Язык американских законов делает акцент на «описание или
Телефонный разговор
Телефонный разговор Мобильный телефон В связи с тем что мобильный телефон дает возможность быть на связи в любое время и практически в любом месте, базовые правила этики использования этого аппарата сводятся к тому, чтобы не доставлять проблем и неудобств
МУЖСКОЙ РАЗГОВОР
МУЖСКОЙ РАЗГОВОР Мужской разговор…Как Мужчина с Мужчиной…Мужской разговор между отцом и сыном…Он ведется у нас давно, и я не хочу, чтобы он когда-либо закончился.Я не хочу этого, может быть, потому, что по мере твоего взросления я все больше чувствую, как такой разговор с
РАЗГОВОР С В. Н. ГАЛЕНДЕЕВЫМ
РАЗГОВОР С В. Н. ГАЛЕНДЕЕВЫМ В.Ф. Валерий Николаевич, много лет мы с вами с удовольствием работали бок о бок, а сейчас — увы! — не работаем вместе. Правда, я продолжаю привлекать вас иногда к работе нашей мастерской: прошу посмотреть вместе что-то или кого-то, обсуждаю с вами
РАЗГОВОР С Л. В. ГРАЧЕВОЙ
РАЗГОВОР С Л. В. ГРАЧЕВОЙ В.Ф. Лариса, правда, это хороший жанр — разговор с коллегами? Все истины рождаются, формируются, оттачиваются или отвергаются в результате живого общения. Хотя, конечно, немножко смешно: вот уже тринадцать лет мы работаем вместе. И так и не
Говорить сообществом (по мотивам книги Сары Кофман «Paroles suffoquées»)[*]
Говорить сообществом (по мотивам книги Сары Кофман «Paroles suffoqu?es»)[*] В предлагаемых заметках мы попытаемся в предварительном порядке осветить то, что имеет отношение к проблеме истории и опыта, более конкретно — к трудностям и даже невозможности перевода опыта в историю.
О времени и утешении. Разговор с Ангелой Шанелек Михаил Ратгауз
О времени и утешении. Разговор с Ангелой Шанелек Михаил Ратгауз М. Р. – Конечно, ситуация, когда ваши фильмы приглашают на иностранные фестивали, для вас привычна. Но что это за ощущение, когда сделанные тобой вещи начинают жить своей жизнью?А. Ш. – Собственно, я ощущаю
Крупный разговор
Крупный разговор На Западе и у нас, как представляется, налицо конец того «крупного разговора», о котором Б. Л. Пастернак вспоминал на рубеже 1920–1930-х годов уже как о прошлом, причем не очень понятом даже современниками, упущенном и подмененном[143]. Конец Разговора непонятен