Педагогизация любви в русской культуре XIX века и в ранней советской культуре
Педагогизация любви в русской культуре XIX века и в ранней советской культуре
В русской литературе XIX века возникновение и развитие любовных сюжетов существенно связано с проблемой письменной медиализации, с медиумом письма. Письмо Татьяны к Онегину может служить наглядным тому примером, хотя отдельные структурные компоненты сюжета о несчастной любви Татьяны и Евгения не вписываются в концепцию, созданную в западноевропейской литературе в эпоху Нового времени. Любовь главных героев в поэме Пушкина сталкивается не с внешними политическими или идеологическими препятствиями, но со своего рода асимметрией и асинхронией внутреннего мира героев. Особенностью «Евгения Онегина» является не только то, что Татьяна и Евгений не находят общего языка любви, но и то, что текст, сочетающий иронически-дистанцированные реплики рассказчика и эмоционализованную речь персонажей, не допускает создание (воображаемой) сферы интимности, в которой мог бы возникнуть эротический союз. Из преобладающей перспективы (мужского) рассказчика любовь остается немой. Параллельно с этим нравоучительные инвективы и оценочные высказывания блокируют всякую попытку проговорить чувство и придать любовным переживаниям внешнюю, объективную, знаковую форму на уровне речи персонажей. В романе оказывается невозможным создание языка любви, он подавляется вездесущей нравоучительной педагогикой. Прецедентный характер текста Пушкина позволяет утверждать, что такие любовные сюжеты преобладают в русской литературе XIX века. История Татьяны и Евгения заканчивается не трагедией, а скорее катастрофой, так как авторитет педагогики и других институций доминирует языковое пространство таким образом, что кодирование интимного в любовной коммуникации становится невозможным. Поэтому у влюбленной пары нет возможности субверсии, нет возможности опровергнуть дискурс власти.
Несколько в измененном виде, но схожую по сути и тоже катастрофически заканчивающуюся историю любви мы находим у Гоголя в «Петербургских повестях», где так же, как и в пушкинском романе, по педагогическим и институциональным причинам происходит тотальное блокирование любовной коммуникации. Так, в «Записках сумасшедшего» (1835) трагикомический герой Попрыщин влюблен несчастливо и, в силу социальных различий, совершенно безнадежно. Авторитет социальной иерархии не позволяет ему проговорить свои чувства даже в защищенном пространстве дневника. На проблеме толкования знаков и авторитарной интервенции сконцентрировано повествование повести «Первая любовь» Тургенева (1860). Первый любовный опыт рассказчика заключается в неверной интерпретации поведения и реплик любимой им героини, имеющей, как впоследствии выясняется, тайную связь с отцом рассказчика. В рассказе Ф. М. Достоевского «Кроткая» (1876) любовная коммуникация блокируется фантазиями власти, порождаемыми воображением героя, что превращает его отношения с женой в кошмарный сценарий, развивающийся в психотическом мужском сознании. Неудавшаяся любовная коммуникация и невозможность создания «языка любви», разворачивающиеся в текстах Достоевского в форме психотического и невротического состояния, констатируются и анализируются Чеховым в «Даме с собачкой» в меланхолическом ключе. Для творчества Льва Толстого знаменательна связь поэтико-эстетического развития его прозы и конструкции его любовных сюжетов. Любовные сюжеты наделяются нравоучительными и платоническими элементами в той мере, в какой этико-моральные нормы довлеют эстетико-литературному письму. Роман «Анна Каренина» (1873–1877) отмечает своего рода перелом в этом процессе. Рассказчик, с одной стороны, отражает индивидуальное становление главной героини, являющееся результатом ее эротического желания, с другой — своей иронией и сарказмом дисквалифицирует ее любовника Вронского, лишая таким образом главных героев интимного пространства. Самоубийство Анны предстает как своего рода жертва, искупающая грехи автора/рассказчика, соблазненного эротикой письма и визуальности. Сходную педагогизацию любви мы находим у и Чернышевского в его социально-утопическом романе «Что делать?» (1863), где и жизнь главной героини, и ее освобождение от семьи, и следующая за этими событиями любовная связь с Кирсановым протекают под протекторатом невинной учительствующей любви ее первого мужа — Лопухина.
Эта типичная структура любовного сюжета русской литературы XIX века находит яркое выражение в работе фотографа Андрея Карелина (1880), который в иной по отношению к литературным текстам медиальности смог наиболее остро и точно выразить проблематику русской любви.

Иллюстрация 2. Андрей Карелин (1880)
Интересно проследить концептуальную связь фотографий русского художника и фотографа А. О. Карелина (1837–1906) и картины Вермеера, тем более, что это способствует лучшему пониманию медиально-антропологической интерпретации специфики любовного сюжета в русской литературе. Как и Вермеер, Карелин снимает сцену у окна так, что лицо увлеченной чтением письма девушки предстает перед наблюдателем еще раз в отраженной перспективе зеркала, висящего у окна. Это сходство позволяет еще раз уточнить различные стратегии описания: как у Вермеера или в традиции Шекспира, так и у фотографа Карелина и русских писателей можно наблюдать взаимосвязь любви и письма/послания. На картине Вермеера нейтральный медиум письма выстраивает закрытое пространство интимной коммуникации, в которой сторонний наблюдатель может принять имагинативное участие, не нарушая при этом самой атмосферы интимности. Совсем по-иному создается сюжет у Карелина. Здесь письмо и послание не означают интимность. Напротив, чтение — это публичная церемония в семейном коллективе. Акт индивидуального прочтения письма девушкой сопровождается его «сопрочтением» семейно-педагогическими авторитетами. Рядом с девушкой стоит ее мать или старшая сестра, которая также заглядывает в письмо; за обеими надзирает отец, наблюдающий за читающими женщинами через открытую дверь. Но это еще не все. Отцовское попечение, которое мы видим на фотографии, отсылает к иной исторической и авторитарной инстанции: к поколению отцов (здесь возможна также и отсылка к фигуре царя Николая I), чьи портреты обрамляют дверной проем. Герменевтическая свобода чтения ограничивается, пространство женского воображения определяется присутствием педагогических и исторических авторитетов. Появление отца в сцене женского чтения придает всей композиции смысл, уходящий корнями в далекое прошлое. Откинутая занавеска символизирует основополагающее различие мужского смыслополагания и женской жажды прочтения, а также успешное объединение этих двух сфер в рамках сюжета карелинской фотографии.
На этом уровне можно проследить главное различие в медиальных функциях послания/письма у Вермеера и у Карелина применительно к любовному сюжету. Письмо у Вермеера — это самодостаточное, замкнутое пространство, создающее и обеспечивающее любовную коммуникацию, в которую наблюдатель не допускается, но может поучаствовать в ней, дав волю своей фантазии. У Карелина, напротив, письмо воспринимается проблематично. Его интерпретативная поливалентность и имагинативный потенциал требуют дисциплинирующего истолкования и контроля педагогической инстанции семьи, представленной здесь фигурами отца и матери (или старшей сестры). Мужское однозначное смыслополагающее начало противопоставляется женской соблазнительно многозначной сигнификации. Наблюдающий фотографию Карелина и как бы включенный в сцену через отражение в зеркале человек, оказываясь на территории письма, также невольно испытывает на себе поучительную отцовскую заботу. В этой ситуации любая письменная коммуникация эротического содержания подвергается инотолкованию и является слабой и ничтожной по сравнению с вездесущей учительной любовью.
Идея фотографии Карелина показательна не только для XIX века, но для эпохи русского модерна, символизма и, прежде всего, для советской культуры. Применительно к русскому символизму нельзя говорить о педагогизации эротической любви, но можно наблюдать, что развитие любовного сюжета в меньшей степени связано с индивидуацией и в большей — с процессами экстатического перехода границ, метафизической универсализации и сублимации. Примером тому может служить интерпретация любви Вячеславом Ивановым в проекции на культ Диониса, поэтическое преклонение Александра Блока перед Святой Софией или платоническая сакрализация сексуально-телесной любви Владимиром Соловьевым в его философском трактате «Смысл любви» (1882–1884). В дополнение к различным символистским формам платонической сублимации и деиндивидуализации любви возникает проблема языкового кодирования интимности и проблема эстетической репрезентации языка любви. Форсируя их, уводя в область мистики, символизм оперирует аполлонически просветленными образами-фантазиями, появляющимися, например, в «Незнакомке» Блока, или неразрешимыми и неоднозначными сюжетными поворотами, как в рассказе Брюсова «Для меня и для другой» (1910).
Обоюдная связь платонически-деперсонализированной любви и педагогических нравоучений имеет место и в советской культуре. Это взаимодействие развивается по нарастающей с 1920-х по 1950-е годы. В 1920-х годах, годы революции и эмансипации, эротическая сторона любви рационализируется и сводится с одной стороны к сексуальности, индивидуальному эротическому переживанию, а с другой — к необходимости продолжения рода, превращая эрос в социальную обязанность по отношению к советскому коллективу. При такой биологизации любовных взаимоотношений все семиотические и коммуникативные аспекты любовного сюжета уступают место метафизической гражданственности[5]. По мере того как в 1930-х годах советская политическая система все более консолидируется, акцент в любовных сюжетах смещается в сторону политики и институционализации, что делает престижным институт брака и семьи. В отличие от сюжетов XIX века happy end советских любовных нарративов обозначается финальной свадьбой героев. При этом речь в таких счастливых сюжетах не идет о сознательной и интимной связи двух влюбленных, совместно противостоящих воздействию внешних обстоятельств. Напротив, именно общество, символически представленное и персонифицированное политическими, идеологическими и социальными авторитетами, делает возможной любовную связь и совместную жизнь двух людей. Советская любовь элиминирует классическое противоречие эротической любви и обязанности повиновения, ей неизвестен Эдипов конфликт и грехопадение. Одновременно влюбленные герои инфантилизуются и лишаются сексуальности. Эта тенденция особенно отчетливо проявляется в визуальном искусстве и дает о себе знать как в фильмах, так и в живописи. Если поведение героев в советских комедиях можно назвать детским — они лишены сексуальности, то в живописи сходный эффект достигается смешением гендерной принадлежности, когда мужские герои наделяются женскими признаками, а женские героини — мужскими атрибутами. Наглядным примером могут служить изображения странных андрогинных существ в живописи Самохвалова.
Попытки создать язык любви, усилия, направленные на языковое и визуальное кодирование интимности, все то, что в XIX веке создается в борьбе с дискурсом педагогизации, исчезают из концептуализации советской любви в 1930–1950-х годах. Инфантилизованные герои, влюбляясь, буквально онемевают, делегируя свой голос идеологическим, политическим и социальным авторитетам, обязанным распознать истинную любовь, озвучить и институционализировать ее. Апогеем такого развития является, на мой взгляд, фильм М. Чиаурели «Падение Берлина». Любовь рабочего и учительницы предстает как аллегория советской идеи смычки пролетариата и интеллигенции. Любовный сюжет, развивающийся от вынужденной разлуки влюбленных во время Великой Отечественной войны к последующей встрече, которая становится возможной только благодаря победе Красной армии, должна прежде всего демонстрировать исторические и военные заслуги Сталина.
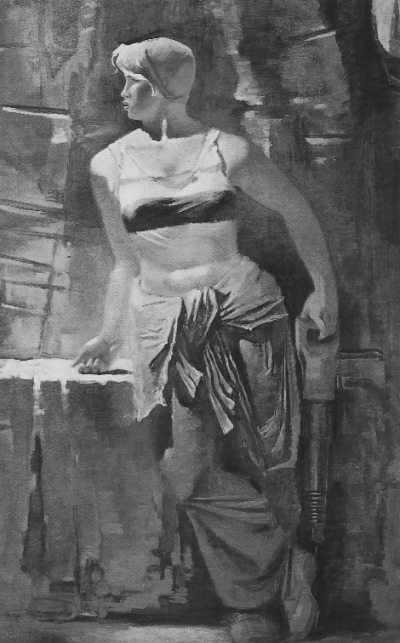
Иллюстрация 3. А. Н. Самохвалов, «Метростроевка со сверлом» (1937)
Особый интерес представляет, на мой взгляд, вопрос о функции фигуры политического лидера во взаимоотношениях между влюбленными. В гиперреалистичной, почти абсурдной сцене безъязыкий в своем чувстве герой обращается к Сталину с просьбой озвучить его признание в любви. Именно вождь создает здесь как внутренние коммуникативные, так и внешние исторические условия для того, чтобы любовь состоялась. Более того, в конце фильма в совершенно нереальной сцене, действие которой происходит в Потсдаме, Сталин лично благословляет любовный союз, автором которого он практически является.
Фильм Чиаурели и, особенно, его последняя сцена наглядно демонстрируют тенденцию исчезновения границ интимного, тогда как усилия европейской и русской литературы Нового времени были направлены на установление этих границ. Протагонисты этой литературы как раз боролись за право на интимное пространство, сопротивляясь политическому, социальному и идеологическому вмешательству со стороны. В советской же культуре мы наблюдаем тотальную педагогизацию, разрушающую любое кодирование интимного, любой «язык любви»[6].
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Мария Мирская АВТОМОБИЛЬ В СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ
Мария Мирская АВТОМОБИЛЬ В СОВЕТСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ Несмотря на то что в больших городах многие практики трансформируются или уходят в прошлое вместе со снесенными гаражами, в провинции эта трансформация проходит менее динамично, и многие практики сохраняются
«Обеззараживание» и повторная эстетическая радикализация монтажа в послевоенной советской культуре
«Обеззараживание» и повторная эстетическая радикализация монтажа в послевоенной советской культуре Составители «Черной книги», по-видимому, первоначально не считали ее текстом, хоть сколько-нибудь критическим по отношению к официальной идеологии. Они планировали
«Бойня номер пять» в советской культуре 1970-х
«Бойня номер пять» в советской культуре 1970-х Для того чтобы прояснить природу ненормализующего подхода к проблематике разрыва и соответствующей ему концепции монтажа, следует обратиться к наиболее яркому примеру из иностранной литературы той эпохи. В 1969 году
ИЛЛЮСТРАЦИИ к книге Лотмана Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века)
ИЛЛЮСТРАЦИИ к книге Лотмана Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века) Групповой портрет участников русского посольства 1662 г. в Англию Неизвестный английский художник. X., м. 1662.Изображены князь Петр Семенович Прозоровский
Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века
Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века Заглавие настоящей работы нуждается в пояснении. Бытовое поведение как особого рода семиотическая система — уже такая постановка вопроса способна вызвать возражения. Говорить же о поэтике бытового поведения —
Отступление. О насилии и священном в советской культуре
Отступление. О насилии и священном в советской культуре Судя по «Терроризму», в русском «обществе спектакля» восторжествовала сугубо авангардная эстетика — вслед за Антоненом Арто ее можно было бы назвать «театром жестокости», если бы Арто не вкладывал в эту категорию
О личном – о культуре, о парадоксах любви
О личном – о культуре, о парадоксах любви Говорят, на табачных фабриках в Гаване существовали штатные чтецы. Они вслух читали рабочим газеты, романы, стихи… Одним из самых любимых писателей на этих предприятиях долгое время был Виктор Гюго.А вообще рабочие сами решали,
54. Живопись, архитектура и скульптура в Советской культуре 1950-1980-х гг
54. Живопись, архитектура и скульптура в Советской культуре 1950-1980-х гг В 1947 г. была создана Академия художеств СССР, и уже в 1950-х гг. в области изобразительного искусства утвердилась жесткая учебно-производственная система. Будущий художник обязательно должен был пройти
Глава IV ДВОРЦЫ – ИДЕОЛОГЕМЫ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Глава IV ДВОРЦЫ – ИДЕОЛОГЕМЫ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ В теоретической модели, предложенной в первой главе исследования, охарактеризован тип дворца-идеологемы, репрезентирующего власть в культуре Нового времени. Топология политического пространства представлена
Глава 3. Белый цвет в русской культуре XX век а
Глава 3. Белый цвет в русской культуре XX век а Предмет настоящей главы отвечает задаче наук, занимающихся культурой в аспекте информационных технологий, которая состоит в изучении трансформаций знаков и условий, в которых они происходят. В данном очерке содержится
Теургическая константа в русской культуре
Теургическая константа в русской культуре В исходном значении теургия, как известно, это термин православной мистики, означающий богодейство, или боготворчество, и предполагающий рассмотрение бытия как непрерывное божественное чудотворение. Естественно, в культуре
5.3. О «глотателях» в русской зрелищной культуре
5.3. О «глотателях» в русской зрелищной культуре Эмиль Кио в уже упомянутой выше книге, посвященной фокусам и фокусникам, разделяет фокусников на две группы: манипуляторов и иллюзионистов: Что такое манипулятор и что такое иллюзионист? Манипулятор – это артист,
Тема двойника в западной и русской культуре
Тема двойника в западной и русской культуре Тема двойничества – тема христианской культуры. Первые возникшие в ней двойники – это Христос и Антихрист. Антихрист подменяет собой Христа, выступает в глазах людей как лучший Христос. Мережковский в своей трилогии «Христос