Воспоминания о художниках
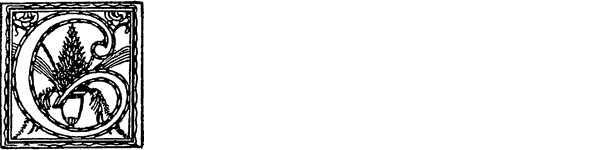
С Нарбутом я познакомился у Билибина, кажется, в начале 1908 г.[892] Тогда уже мы все знали, что у Билибина поселился студент, приехавший из глуши, откуда-то из Глухова, приехавший […] с вокзала прямо к нему в качестве его почитателя, чтобы учиться под руководством любимого мастера.
Тогда будущий мой милый друг Георгий Иванович был застенчивым и неловким юношей, добродушно отшучивавшимся от забавных придирок Билибина, который играл роль строгого ментора и, кажется, начал с того, что по первому случаю выругал его за усердное ему подражание. Несмотря на полушутливые отношения, несомненно под влиянием Билибина Нарбут стал изучать «первоисточники». Кажется, Билибин внушил ему серьезный интерес к Дюреру и мастерам деревянной гравюры, и известный период в творчестве Нарбута отразил его увлечение Kleinmeister[893] и средневековьем, начавшийся, по-видимому, уже тут.
Вскоре Нарбут стал бывать у многих из моих друзей, и, конечно, общение с Александром Бенуа, рассматривание его коллекций были для него лучшей школой. Будучи еще на первом курсе университета, он был одним из инициаторов художественного студенческого кружка, который существовал, впрочем, очень недолго, пригласили Бенуа, Рериха, кажется, Бакста и меня руководить рисованием с натуры[894], но, помнится, я был раза два-три в здании университета, где в одной из аудиторий стоял натурщик. Тогда я руководил вместе с Бакстом школой живописи Званцевой.
У меня сохранилось письмо Нарбута, где он неуверенно советовался со мной, поступать ему или нет в школу, в конце концов поступил, но пробыл недолго. Я совершенно не помню его рисунков, осталось только впечатление, что он очень старался и ничего «не выходило». Это характерно для него: замечательный рисовальщик и наблюдательный изобретательный художник — он «не умел» рисовать с натуры. В начале 1910 г. он решил ехать в Мюнхен. Что его потянуло именно туда, мне не ясно, может быть, именно тот же культ Дюрера и немецких старых мастеров гравюры. Из Мюнхена он спрашивал моего совета, куда поступить. Я ему посоветовал школу Холлоши, у которого и сам учился за десять лет до этого и к которому сохранил навсегда благодарность, как к чрезвычайно талантливому и умному руководителю. Он так и поступил и, по-видимому, был доволен, но опять же я не знаю его тамошних школьных работ. Я думаю, Мюнхен был для него, главным образом, важен в смысле знакомства с музеями и вообще с художественной жизнью.
Ко времени его пребывания в Мюнхене относится один случай, показавший его горячность, немного наивную честность и товарищеское чувство, о чем нелишне, мне кажется, упомянуть. В «Simplizissimus’e» появился рисунок одного очень известного немецкого художника, до странности близко повторяющий один рисунок, напечатанный в «Жупеле» (мне до сих пор непонятен этот казус[895]). Нарбут чрезвычайно горячо реагировал, собирался сделать скандал, очень хлопотал там и будировал, и большого труда стоило его отговорить не поднимать этой истории. Такие неожиданные вспышки темперамента у обычно медлительного, иногда очень добродушного Нарбута бывали нередко. Когда он возмущался чем-нибудь, особенно бездарностями, то выходил из себя, смешно ругался и неумело язвил.
По возвращении его из-за границы мы с ним сошлись ближе. Он вообще как-то очень скоро стал «своим» среди моих друзей. Его вкус и мастерство прогрессировали чрезвычайно быстро, и за каких-нибудь три года он стал действительно современным мастером. Он усвоил и воспринял удивительно легко то, что называется стилем, что дается только особым внутренним чутьем, чему нельзя научить и что, несомненно, есть истинный и врожденный дар.
Нас сблизили общие художественные симпатии, и, конечно, как и я, он отдавался общему увлечению коллекционирования и особенно любил и радовался народной игрушке (вспомним ряд его книжек!). Мы с ним сошлись и на нашей любви к Андерсену и увлекавшему меня тогда Средневековью. Известно, какое большое место в творчестве Нарбута играла геральдика; вопросы генеалогии тоже его занимали — оба мы с ним литовских фамилий (литовский род Нарбутов начался лишь с XVIII в.). Это тоже как-то сближало и давало темы для интересных нам разговоров.
Нарбут превосходно чувствовал архитектуру. С каким огромным знанием, вкусом и талантом он пользовался архитектурными мотивами в своих композициях, известно всем, знающим его творчество. Он мечтал и о том, чтобы когда-нибудь осуществить реально свои архитектурные затеи, что-нибудь построить, и долго носился с идеей перестройки своей Нарбутовки, куда он уезжал каждое лето (кажется, это ему и удалось впоследствии частично осуществить).
В 1912 г. я предпринял маленькую поездку по Украине, где никогда до сих пор не был, чтобы порисовать в провинциальных городах и имениях[896]. Будучи в Киеве, я списался с Нарбутом, который приехал ко мне на свидание в Чернигов из Нарбутовки. Я всегда с радостью вспоминаю проведенное с ним в путешествии время, хотя он был как-то озабочен и немного грустен (потом это объяснилось). В Чернигове он познакомил меня с некоторыми своими друзьями, мы вместе исходили весь город. То тут, то там он советовал зарисовать какую-нибудь церковь, при всем восхищении курьезами провинциальной и старой архитектуры он сам почти не рисовал. Помню только, он показывал зарисованный им какой-то забавный фонарь и подъезд.
Из Чернигова мы совершили памятное путешествие на пароходе до Киева и оттуда в Нежин. Помнится, был проливной дождь и было много смеха, когда мы тряслись на пролетке, одолевая бесконечных размеров во всю площадь лужу. В Чернигове мы за неимением антикваров обошли всех часовщиков и действительно нашли кой-какие мелочи, и он был очень доволен какой-то большой рамкой, которую все время таскал с собой, потом она красовалась у него в петербургской квартире.
В Курске мы расстались с ним, чтобы вскоре встретиться у Е. Е. Лансере в имении Усть-Кринице Харьковской губернии. Там его хандра прошла, и его неожиданно прорвало на дурачества. В июньскую жару мы вдруг вздумали устроить импровизированный маскарад (настоящий «театр для себя», без зрителей!). Все как-то этим неожиданно заразились, нарядились в то, что нашлось под рукой, и наша маленькая компания превратилась в довольно эффектный нимфующий сераль. (Я очень рад, что сохранились фотографические снимки с этого зрелища, — они были на посмертной выставке Нарбута в Русском музее).
Помню, какой был тогда смешной и милый Г[еоргий] И[ванович], дорвавшийся до возможности почудачить. Его всегда тянуло к «маскараду». Эта театральная жилка сказалась уже в первые годы его в Петербурге, когда он, не обращая внимания на подтрунивания, ходил в сюртуке покроя вроде 1830-х годов и запустив баки и зачесы на висках.
Там я его покинул и тем же летом, будучи в Дании, получил от него длинное дружеское письмо, где [он] просил меня извинить его озабоченность во время нашего путешествия: он собирался жениться, тогда еще не знал, как все будет, и только тут признался мне, кажется, первому из друзей.
Осенью 1912 г. он появился среди нас уже со своей молодой женой. Сначала Нарбуты поселились у Билибиных, а вскоре устроились на своей очень уютной квартире на Алексеевском проспекте[897], где стали бывать и друзья. У него появилась (неизбежная) мебель красного дерева, разные старинные вещи, обстановка, которую он понемногу приобретал на скопленные с заказов сбережения. С этого времени мне приходилось с ним встречаться еще чаще, потому что я вел тогда художественную редакцию издания Гримма «Микеланджело» и привлек его к работе над этой книгой[898].
Все наиболее значительное сделано Нарбутом в эти спокойные и мирные годы его жизни, когда его талант и мастерство достигли полного расцвета, можно сказать, на глазах его друзей. В период войны им был сделан, помимо всяких заказов, ряд аллегорий — акварелей и гуашей — произведения, на мой взгляд, удивительные, полные той хитрой маскарадной пышности, за которой порой угадывалась и усматривалась и печальная улыбка художника.
Он был в свое время призван на военную службу[899], и ему удалось устроиться в Красный Крест при одном санитарном поезде, с которым он, впрочем, никуда не ездил, а должен был бывать в Царском Селе и неизбежно присутствовать на обедах в антипатичной ему компании. Тогда он появлялся во френче и галифе, с вензелем и в погонах — в шаржированной форме и не без той же забавлявшей его маскарадной подчеркнутости.
Наступила очередь моего призыва, и я был зачислен в историческую комиссию Красного Креста, куда перетянул и Нарбута вместе с Чехониным и художником Калмаковым. Наша «служба» заключалась в ежедневных занятиях по редактированию книги о 50-летии Красного Креста и в графической работе для этого издания[900], и Нарбут наконец вздохнул свободно.
Удивительно, что Нарбут ни разу не «прикоснулся» к сцене, не приложил своего замечательного декоративного дарования к театру; конечно, не приходится считать детского спектакля в моей семье (мои дети ставили «Свинопаса» Андерсена задолго до того, как я сделал иллюстрации для моей любимой сказки), когда он с увлечением клеил детям бутафорию и расписывал картонных овечек.
Я часто встречался с ним в первые дни великой революции и наблюдал его энтузиазм. Он был всегда навеселе и рад был возможности безнаказанно выкидывать разные штуки. Кажется, он даже участвовал в ловле городовых и однажды сжигал вместе с толпой аптечного орла. Делал это он, как мне потом говорил, с удовольствием, потому что эти «орляки» возмущали его геральдический вкус.
Потом наши встречи стали реже, я проводил много времени в Москве, занятый в Художественном театре[901], и в последний раз видел его в одном из […] помещений на Среднем проспекте Васильевского острова. Тогда он был полон желанием ехать к своим, на свою милую Украину. После его отъезда[902] я получил только одно письмо, почта уже не действовала, и о его жизни в Киеве и о его смерти уже узнал спустя много времени после нашего последнего свидания.
Бакст

По тому огромному месту, которое занял театр в культурной жизни Европы сейчас, как это было в эпоху конца XVIII в. в Италии и Франции, он — один из наиболее живых нервов современности. И это необычайное явление — проникновение искусства в жизнь через рампу, отражение театра в повседневной жизни, влияние его на область моды — сказалось в том глубоком впечатлении, которое сопутствовало блестящим триумфам «Русских сезонов» Дягилева в Париже. Общественный поворот вкуса, который последовал за этими триумфами[903], в величайшей степени обязан был именно Баксту, тем новым откровениям, которые он дал в своих исключительных по красоте и очарованию постановках, поразивших не только Париж, но и весь культурный мир Запада. Его «Шехеразада» свела с ума Париж, и с этого начинается европейская, а затем и мировая слава Бакста.
«Восток» «Шехеразады», покоривший Париж, был замечателен именно вдохновенной интерпретацией Бакста. Понимая и чувствуя, как редко кто из стилистов, всю магию орнамента и чары красочных сочетаний, он создал свой особый, бакстовский стиль из той «полу-Персии — полу-Турции», которая его вдохновляла. Этот пряный сказочный Восток пленял необычайным размахом фантазии. Изысканность ярких цветов, роскошь тюрбанов с перьями и затканных золотом тканей, пышное изобилие орнамента и украшений — все это настолько поражало воображение, настолько отвечало жажде нового, что воспринято было и жизнью. Ворт и Пакэн — законодатели парижских мод — стали пропагандировать Бакста.
Его признал и «короновал» сам изысканный и капризный Париж, и что удивительно, несмотря на калейдоскопическую смену кумиров, изменчивость парижских увлечений, несмотря на все «сдвиги», вызванные войной, на новые явления в области искусства, на шум футуризма, — Бакст все-таки оставался одним из несменяемых законодателей «вкуса». Постановки его вызвали бесконечное подражание в театрах, его идеи варьировались до бесконечности, доводились до абсурда, докатились до «Folies Berg?res», в котором даже еще в прошлом году ставилось «Revue» «под Бакста» в невероятной по роскоши постановке. Париж уже забыл, что Бакст иностранец, что он «корнями» своими в Петербурге, что он художник «Мира искусства». Леон Бакст — стало звучать как наиболее парижское из парижских имен.
Разумеется, не в этом блеске, которым было окружено имя Бакста, не в его популярности и влиянии все значение его искусства. Им сделан действительно громадный вклад в область театрального искусства. Замечательно разностороннее декоративное дарование Бакста не ограничилось одним «Востоком» в «Шехеразаде» и в следующих за ним «Клеопатре» и «Саломее»; он уходит еще в большую фантастичность и изысканность созданного им мира. Еще в ранней своей «Фее кукол», а у Дягилева в «Карнавале» Шумана и в «Spectre de la rose»[904] он показывает все очарование и грацию 30-х и 40-х годов [XIX в.], в «Св. Себастьяне» с Идой Рубинштейн — строгость и четкость quatrocento, а в «Joseph»’е Р. Штрауса — пышность венецианского «веронезовского» Ренессанса — и в то же самое время во многих других декоративных работах неизменно возвращается к своему первому и, может быть, самому серьезному увлечению — к архаической Греции — увлечению, которому он отдавался еще в далекие годы его петербургской жизни.
С Бакстом я познакомился в 1902 г., войдя тогда впервые в круг моих будущих друзей по «Миру искусства». В этом году открылось в Петербурге (еще очень преждевременно, чтобы быть по-настоящему оцененным) «Современное искусство»[905]. По инициативе Грабаря, фон Мекка и кн. Щербатова и по проектам Александра Бенуа, Лансере, Бакста, Коровина и Головина было сделано убранство ряда комнат с мебелью, панно, люстрами и каминами, каждая отразившая индивидуальность художника, и Бакст создал необыкновенно красивый будуар, белый с розовым, весь в трельяжах, зеркалах и хрустале, отразивший его тогдашнее (общее для всех) увлечение XVIII веком.
Вскоре он вместе с Серовым совершил путешествие по Греции и вернулся настоящим энтузиастом микенского искусства. Кносс и чудеса, виденные им на Крите, были постоянной темой его рассказов: он был весь под впечатлением искусства архаической Эллады[906]. К этому времени относится его известная картина «Terror antiquus».
Постановка «Ипполита» в Александринском театре, а также «Феи кукол» в Мариинском (если не считать эрмитажного спектакля) были первыми его выступлениями в театре, сразу же открывшими «настоящего» Бакста. Как живописец он уже выступал и до первых выставок дягилевского журнала «Мир искусства»; тогда это был иной Бакст — хороший реалист и отличный акварелист. На первых выставках «Мира искусства» он появился уже как пейзажист («Версаль»), замечательный портретист (портреты Ал. Бенуа, Дягилева с няней и др[угие]) и миниатюрист. Его графические работы в журнале «Мир искусства» (большей частью на античные мотивы), сделанные тончайшим пунктиром и частью силуэтные, были поразительно декоративны, полны особенной загадочной поэзии и очень «книжны»[907], но так отдаться книге, как другие его товарищи, ему не пришлось — он отдается всецело театру и портрету. Эти разносторонность, универсальность, «ретроспективизм», это чувство стиля — все то, что так отличительно для дарования Бакста, делало его самым характерным для той группы художников, за которой утвердилось название «Мира искусства».
В 1906–1908 гг. мы с ним руководили занятиями в художественной школе (Е. Н. Званцевой), где в числе учеников был Шагал, рано скончавшаяся поэтесса Гуро, Нарбут и многие другие, ставшие потом выдающимися художниками. Бакст как отличный рисовальщик давал ученикам чрезвычайно много ценного, требуя прежде всего ясной и твердой линии (эта «линия» была его излюбленным «коньком», что вызывало часто горячие споры с друзьями).
Вскоре Бакст уехал навсегда в Париж[908]. Только один раз он приезжал в 1913 г. в Петербург[909] на один блестящий костюмированный бал (у гр. Клейнмихель), где фигурировало несколько его удивительных восточных костюмов. В 1914 г. мне пришлось снова встретиться с ним в Париже. В этом сезоне в Большой опере поставлен был балет Шумана «Papillons» с костюмами Бакста и в моих декорациях. Тогда же у Дягилева шла необыкновенно эффектная постановка «Иосифа» Р. Штрауса с совершенно умопомрачительными костюмами Бакста, взволновавшими уже достаточно пресытившийся тогда Париж. Бакст весь ушел в работу, до переутомления, и не успел сделать декораций к «Мидасу» Штейнберга, и неожиданно пришлось взяться за эту постановку мне.
После этого сезона, летом перед войной, он серьезно заболел от переутомления; здоровье его уже тогда было изрядно надорвано. Затем война, а потом революция надолго отрезали его от петербургских друзей. В глухие годы пришел слух в далекий Петербург о его смерти. К счастью, он оказался тогда ложным.
Год назад, после десятилетнего перерыва, я наконец снова встретился с ним в Париже. В маленьком ресторане, а потом часто у него, в его чудесном ателье на бульваре Малерб, со мной был опять наш прежний Бакст. Припоминаю, как он неистово ругал футуристов, много и забавно рассказывал про Америку, жаловался на усталость от вечного круга заказов и хотел слышать мнение старого друга о своих последних работах…
Часто говорят о «преждевременной» смерти. И именно смерть художника, музыканта и поэта мучает всегда этой мыслью, мыслью о тех произведениях, которые с ними умерли, не родившись. На моей памяти так было, когда во цвете лет умер Серов, погиб гениальный Чюрленис и только что расцветший в своем таланте Нарбут. Бакст, конечно, далеко не дал всего, что мог дать его исключительный художественный дар. Его «знаменитость» была его трагедией. Вспоминаю последнюю встречу с ним и его слова о том, что нет времени отдаться тому, что он хочет. И слава обязывала: Бакст уже должен был оставаться Бакстом. А между тем многие вещи, которые были известны, может быть, только его друзьям, говорили о его неожиданных обещаниях[910].
Кустодиев
В 1913 г., осенью, я получил открытку от Кустодиева из Берлина. «Завтра ложусь под нож — будет операция, и я не знаю, останусь ли жив. Сегодня иду в „Kaiser Friedrich Museum“ насладиться, может быть, последний раз Веласкезом и нашим любимым Вермеером».
Операция была страшная. Два года он очень страдал от таинственных болей шеи и рук, провел почти год в горах, в швейцарском санатории, на подлинном «прокрустовом ложе», где ему варварски вытягивали шею, — и все напрасно. Но операция удалась — о ней писали в медицинских журналах: надо было вскрыть шейный позвонок и удалить опухоль на спинном мозге. Все эти мучения были лишь началом страданию всю его остальную жизнь — все последующие шестнадцать лет; потому что были еще две операции, такие же жестокие, и последняя привела к тому, что он был спасен для душевной жизни, но пришлось в силу каких-то хирургических соображений пожертвовать ногами, и, полупарализованный, он был уже пригвожден к креслу до конца жизни.
И вот на глазах знавших его происходило истинное чудо — именно то, что называется «победой духа над плотью». Он лишь как «сквозь щелку» видел то, что происходило в это время кругом. Сидя в своем кресле у окна с видом на синий купол церкви, он мог наблюдать свою улицу и все, что сменялось на ней, день за днем, год за годом — хвосты очередей, манифестации, как растаскивали на топливо последние деревянные дома Петроградской стороны, как ложился снег на крыши и распускалась весной зелень сквера. Его жена — единственная и незаметная его сестра милосердия[911] — несла на себе все то, от чего он был избавлен своей болезнью, — все тяготы пайков, анкет и вечных хлопот. Эта невольная изолированность была огромным несчастьем для него как художника — в течение многих лет (и еще до революции) он совершенно был лишен непосредственных внешних впечатлений жизни[912]: ни деревни, ни привлекавшей его всегда русской провинции. Поневоле он должен был питаться только запасом своих прежних воспоминаний и силами своего воображения — и память, фантазия и работоспособность его действительно были беспримерны. Наперекор всему и своей болезни он уходил в свой мир тихой и обильной жизни Поволжья, быта купцов и купчих, который уже тогда смела революция, радостных пейзажей с полями, залитыми солнцем, масленичных гуляний с тройками и березами в инее, гостиных дворов его небывалого русского городка.
И что особенно поражало в этом, быть может, до болезненности жадном творчестве, точно он спешил исчерпать себя до конца, — это всегдашняя его тихая незлобливость и, что еще удивительнее, отсутствие всякой сентиментальности к ушедшему и горечи по утраченному для него. Точно он верил, что все то, что вставало в его воображении, реально существует где-то в мире, и потому нам так дорога была эта простая улыбка радости жизни, которая светилась в его творчестве.
Ему было горше и печальнее, чем многим из его друзей, но от этой силы воли, горения и благодушия, которые мы видели у него, делалось как-то стыдно за собственную апатию. Кустодиев навсегда останется одним из моих самых светлых и благодарных воспоминаний этих лет. Если бывало очень тяжело, хотелось именно пойти к нему на далекую Петроградскую сторону[913], «поговорить о прекрасном», как мы шутя говорили, посмотреть на его городки и унести всегда запас бодрости, умиления и веры в жизнь.
Гржебин
Мы, в сущности, до сих пор не даем себе ясного отчета, какой огромный подъем во всех отраслях русской культуры произошел на протяжении каких-нибудь 15 лет, с начала 1900-х годов. С какой жадной торопливостью росло и раскрывалось кипучее и точно лихорадочное творчество в русской литературе и искусстве. Надо вспомнить, что пройденный путь при этом был тернист и из-за недоброжелательства официального мира, и отчасти от безразличия самого общества (чего стоил один лишь моральный тормоз «Нового времени»). И все же, несмотря на это, какие были сделаны достижения! […]
Весь подъем, весь этот русский Ренессанс возникал в те годы помимо и вопреки какого-то признания «свыше», рождаемый частной инициативой и энергией отдельных лиц, и в этом глубокая и настоящая ценность всего, что было создано за тот короткий и необыкновенный период русской жизни. В свое время, конечно, будут подведены справедливые итоги, теперь же, может быть, мы еще слишком близко стоим к этому прошлому как свидетели и отчасти участники его, чтобы судить беспристрастно и «исторически».
Один из деятелей, кому русская культура этого периода многим обязана в смысле пропаганды искусства и литературы, который в течение этих лет являлся инициатором и душой многих начинаний, — был Зиновий Исаевич Гржебин, недавно скончавшийся в Париже. Мне лично пришлось быть свидетелем и многолетним сотрудником в его издательском деле и хотелось бы, хоть вкратце, напомнить о том, что сделано им[914] и что заслуживает глубокой и благодарной памяти.
Около 1905 г., оставив Париж, где он занимался живописью (после нескольких лет, проведенных до этого в Мюнхене, в школе Hollosy[915]), Гржебин появился в Петербурге с мыслью основать художественный журнал. Журнал «Мир искусства» Дягилева уже закончил тогда свою огромную культурную миссию и закрылся; образовалось пустое место, которое лишь отчасти заполнялось «Новым путем» и «Весами» (последние издавались в Москве). «Золотого руна» и «Аполлона» тогда еще не было. Но тогдашнее общественное настроение подсказывало Гржебину иной тип журнала[916]. Он мечтал о живом современном органе, который был бы совершенно независимого направления, но с сатирическим оттенком, одинаково при этом «бичующим» как правые, так и левые уродства. Определенной программы, впрочем, не имелось в виду, но, во всяком случае, по первоначальной идее Гржебина это не должен был бы быть только специально карикатурный журнал. В это время он сблизился с Горьким[917], который очень поддерживал его мысль, и летом 1905 г. на даче Горького в Куоккале Гржебин устроил (показав уже этим задатки своих будущих организаторских способностей) «съезд» самых разнообразных по своим взглядам и вкусам деятелей литературы и искусства[918], причем приехали также из Финляндии художники Галлен, Эрнефельд, Энкель и архитектор Сааринен. Гржебин, помнится, возлагал на это общение необычайные надежды для будущего.
Несмотря на бесчисленные трудности, скептицизм петербуржцев, поиски будущего издателя и денег, официальные хлопоты и прочее, Гржебин, тогда еще совсем новый человек в художественном и общественном мире, совершил действительно чудо[919], убедив своим пылом и раскачав и объединив в своем порыве даже самых, казалось бы, индифферентных людей, и с этого момента началась его популярность и возникли многие дружеские связи. «Жупел», как был назван журнал, вышел в свет (в конце 1905 г.), хотя и далеко не таким, каким мечталось вначале, но, во всяком случае, очень художественным по внешности — и был первым издательским достижением Гржебина. Судьба журнала известна — на третьем номере он был закрыт; вместо «Жупела» Гржебин успел выпустить три номера «Адской почты», тоже превосходно изданные, но, как редактор, он уже состоял под судом и впоследствии отсидел около 8 месяцев в тюремном заключении[920].
Эта первая большая неудача с журналом, однако, не обескуражила З[иновия] И[саевича]. В это самое время основано было издательство «Шиповник»[921]. Гржебин с новым увлечением взялся за это дело, во главе которого стал, и оно вскоре развилось в одно из крупнейших издательств с очень широкой программой. Необходимость такого издательства в Петербурге в те годы крайне назрела, литература после 1905 г., можно сказать, «выступала из берегов», между тем старые издательства или стояли далеко от новых течений, или, как популярное «Знание», отставали от нового вкуса в книгопечатании. Передовые же московские книгоиздательства, «Гриф», «Скорпион», Сабашникова, Саблина, были или «узкопартийные» или малодоступны. Художественная внешность русской книги к этому моменту достигла исключительного совершенства[922], благодаря почину журнала «Мир искусства» и высокой технической оборудованности типографий Экспедиции [заготовления государственных бумаг], Голике и Вильборга и «Сириуса». «Шиповник» стал сразу на одно из первых мест в этом движении, преследуя также и общедоступность своих изданий. Внешность книги стала первой заботой Гржебина[923]. Очень многие художники принимали участие в иллюстрировании и орнаментации книг, выпускаемых «Шиповником», как Ал. Бенуа, Бакст, Билибин, Лансере, Рерих, Нарбут, Сомов и пишущий эти строки.
Так как время толстых журналов казалось изжитым, «Шиповник» начал с выпуска «Альманахов» и «Северных сборников». Издательство затем широко открыло двери начинающим писателям. Так впервые были изданы «Пруд» Ремизова[924], «Мелкий бес» Сологуба и произведения целого ряда других молодых в то время авторов. Параллельно издательство печатало переходную литературу. Кроме упомянутых «Северных сборников», посвященных скандинавским писателям, отдельно был издан Кнут Гамсун (Полное собрание сочинений) и затем Уэллс. Начата была и серия «театра» — Александр Блок и Ведекинд.
С самого начала возникновения «Шиповника» Гржебин затеял ряд художественных монографий, и, несомненно, развить эту область издательства было самой излюбленной его целью, но выпущены были, если не ошибаюсь, только «О. Бердсли»[925] и «Гойя» Александра Бенуа[926]. Наконец в 1911 г. Гржебин приступил к изданию и лучшего памятника своей деятельности и замечательного вклада в русскую художественную литературу — «Истории живописи всех времен и народов» Александра Бенуа[927], сделавшей и честь типографии Голике, где печаталась эта прекрасная книга. Книга эта, выходившая выпусками в течение последующих лет, осталась, к сожалению, не доведенной до конца благодаря внешним событиям, прервавшим ее на 22 выпуске. В то же самое время Гржебин принялся и за издание «Истории музыки» Сакетти, тоже по тем же причинам прекратившейся на втором выпуске. Война остановила и разрушила очень многие культурные начинания, закрылся и «Шиповник». Все же и во время войны З[иновий] И[саевич] напечатал (в новом издании «Парус») несколько отличных детских книг и сборников («Радуга», «Елка» и др[угие])[928]. В самом начале революции Гржебин испытал новый, необыкновенный даже для него подъем деятельности, увлекался мыслью нового колоссального издательства, предвидя в нем огромный двигатель культуры. Литература, наука, философия, искусство — не было такой отрасли, которая бы не находила себе места в проекте[929] […] В конце концов ему пришлось бросить всю налаженную организацию в Петербурге и с величайшими трудностями […] создать самостоятельное издательство в Берлине[930], с по-прежнему интересными проектами, успевшее отлично напечатать много ценных книг и литературного, и научного характера. Но, к сожалению, наступило в Германии тяжелое время инфляции, грозившее новой катастрофой. Думается, что он сделал роковую ошибку, не выждав на месте, пока восстановится нормальное положение, и, как поступило тогда множество русских беженцев, переехал в Париж. Париж встретил его негостеприимно, надежды и планы оказались слишком фантастическими, проза слишком реальна и непреодолима даже для его кипучей трудоспособности. С Парижем ничего не вышло. Бездеятельность — это гибель для таких натур, а тут пришли болезни, подкашивающие его силы. Казалось, тяжелые условия жизни должны были окончательно сломить его жизнерадостность и веру в будущее, которые еще никогда ему не изменяли.
Но между тем те, которым пришлось его видеть в самые последние дни его жизни, вновь как будто почувствовали прежнего Гржебина, снова каким-то чудом у него забрезжила надежда. Снова рождались у него заманчивые планы, казалось, в самом деле, наконец близкие к осуществлению, и он точно воскресал. Увы, физические силы были, очевидно, слишком надорваны, и смерть пришла, когда меньше всего ее ждали.
Для всех, кто близко знал Гржебина в жизни и работал с ним, он остался в памяти как необыкновенно добрый и отзывчивой души человек и до фантастически пламенный и «неисправимый» энтузиаст. Он был истинным «поэтом дела», а такие люди и суть подлинные деятели культуры. Гржебин обладал редким даром объединять самых различных людей во имя общего дела — чертой в высшей степени драгоценной в жизни каждого общества, так как он наделен был талантом заражать своим собственным, всегда искренним горением. В этом смысле русская культура за рубежом, при разброде и разорванности русских в изгнании, потеряла в его лице очень крупную силу. И слова «незаменимая потеря» приобретают особенно горестное и жестокое значение, когда думаешь об этой действительно безвременной смерти.
Чюрленис
Осенью 1908 г., перед приездом Чюрлениса в Петербург, я получил из Вильнюса известие, что там появился художник, изображающий красками музыкальные темы. «Чудак», «декадент» и другие подобные эпитеты, которые я услышал от людей, знавших эти картины и дилетантски судивших о них, заставили меня еще больше заинтересоваться этим, видимо, необычным художником, который к тому же, как я выяснил, был и композитором. В особенности заинтриговало меня то, что он, как говорили, изображал какую-то фантастическую Литву. Несмотря на то что я жил тогда в Петербурге, я каждый год приезжал в Вильну и знал о зарождавшемся движении литовской интеллигенции[931]. Тем не менее «лик» Литвы оставался для меня загадочным и поэтичным, скрытым в густом тумане, и в появлении Чюрлениса я надеялся увидеть какой-то просвет. Поэтому, когда из письма Антанаса Жмуйдзинявичуса[932] я узнал, что Чюрленис собирается приехать в Петербург, я и те, кто уже слышал об удивительном художнике, с нетерпением стали ждать этого знакомства. Жмуйдзинявичус предупредил меня, что Чюрленис — чрезвычайно скромный, несмелый человек. И действительно, приехав в Петербург, он не решился зайти ни ко мне, ни к Сомову, который был тоже уведомлен о его приезде, а почему-то послал вперед своего брата, еще более робкого, чем он сам. После того как Чюрленис все же решился прийти ко мне[933], он довольно скоро освоился и стал часто навещать нашу семью, так что у меня появилась возможность познакомиться с ним ближе[934].
Жить Чюрленис устроился на Вознесенском проспекте, напротив Александровского рынка[935], между Фонтанкой и Садовой. Комнату, узкую и темную, он снял в бедной квартире, где постоянно шумели дети и пахло кухней. Здесь я впервые познакомился с его фантазией[936]. В этой крохотной темной комнатушке на бумаге, кнопками прикрепленной к стене, он кончал в те дни поэтичнейшую «Сонату моря».
О картинах Чюрлениса я рассказал своим друзьям. Они очень заинтересовались творчеством художника, и вскоре А. Бенуа, Сомов, Лансере, Бакст и Сергей Маковский (редактор журнала «Аполлон») пришли посмотреть все то, что привез с собой Чюрленис. Сам он на эту встречу не пришел — ему было не по себе говорить о своих работах с такими известными художниками, и мы условились, что картины покажу я сам. Маковский в то время собирался организовать большую выставку. Картины Чюрлениса произвели на нас всех очень сильное впечатление, и было немедленно решено пригласить его участвовать в этой выставке. Первое, что поразило нас в полотнах Чюрлениса, — это их оригинальность и необычность. Они не были похожими ни на какие другие картины, и природа его творчества казалась нам глубокой и скрытой. В голову приходили сравнения (и то весьма приблизительные) с Уильямом Блейком[937] и Одилоном Редоном[938] — художниками, которых Чюрленис мог знать. Но знал ли он их и их ли влияние ощущается в его картинах — это вопрос, который еще следует выяснить.
Было очевидно, что искусство Чюрлениса наполнено литовскими народными мотивами. Но его фантазия, все то, что скрывалось за его музыкальными «программами», умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлениса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства.
В творчестве Чюрлениса нас особенно радовали его редкая искренность, настоящая мечта, глубокое духовное содержание. Если в некоторых полотнах Чюрленис был совсем не «мастером», иногда даже бессильным в вопросах техники, то в наших глазах это не было недостатком. Даже наоборот, пастели и темперы, выполненные легкой рукой музыканта, иногда нарисованные по-детски наивно, без всяких «рецептов» и манерности, а иногда возникшие как будто сами по себе, своей грациозностью и легкостью, удивительными цветовыми гаммами и композицией казались нам какими-то незнакомыми драгоценностями.
Естественно, что мои друзья, увидев замечательные картины Чюрлениса, захотели познакомиться и с ним самим. Хотя Чюрленис избегал общества, мне удалось уговорить его пойти к Александру Бенуа[939]. У Бенуа по определенным дням, кроме близких друзей, собирались и многие передовые художники Петербурга. В такой компании Чюрленис, конечно, почувствовал бы себя неловко, но милая сердечность хозяев, предупредительно освободивших художника от назойливых вопросов и предоставивших ему место в тихом углу, позволила Чюрленису спокойно рассматривать массу гравюр и рисунков и прислушиваться к иногда очень интересным спорам. После этого первого посещения Бенуа Чюрленис был там еще один или два раза. У меня, как я уже вспоминал, он бывал очень часто. В нашей семье Чюрленис, видимо, чувствовал себя хорошо и уютно, играл с детьми, сажал их на колени, радовался их лепету, а дочь называл ангелочком. Помню, с каким вниманием рассматривал он их действительно интересные рисунки, которые я аккуратно собирал. При этом он все время повторял свое любимое выражение: «Необыкновенно». Вообще вспоминаю его постоянно что-то рассматривающим, читающим. У меня была большая библиотека и много гравюр.
О своих работах он говорил неохотно и очень не любил, когда его просили объяснить их содержание. Он сам мне как-то рассказывал, что на вопрос, почему в картине «Сказка королей» на ветках дуба нарисованы маленькие города, он ответил: «А потому, что мне так хотелось».
Как сейчас вижу его лицо: необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивая ее вниз. Он часто что-то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать «Эгмонта» и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом «Беккере». Когда Чюрленис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизируя, и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. Он много играл с моей женой в четыре руки, чаще всего симфонии Бетховена (особенно 5-ю), «Эгмонта» и 6-ю симфонию Чайковского, которую он очень любил. Играл он нам и свою симфоническую поэму «Море». Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрленис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так, что рояль под его руками ходуном ходил.
У Бенуа он познакомился с организаторами общества «Вечера современной музыки» В. Нувелем и А. Нуроком, которым показал свои музыкальные работы. На концертах общества исполнялись лучшие произведения современной русской и западной музыки. И здесь Чюрленис был принят с восторгом. На одном из концертов этого общества исполнялась его симфоническая поэма («Лес» или «Море», не помню), которую виртуозно сыграла пианистка Плоцкая-Емцова. Я был на этом концерте и видел тихо сидевшего в далеком углу Чюрлениса. Концерт этот состоялся, кажется, весной 1909 г. Незадолго до этого Чюрленис уезжал в Литву и вернулся со своей молодой женой[940], с которой мы тут же познакомились. Они обосновались на улице Малая Мастерская[941], в светлой комнате с большими окнами, где Чюрленис создал своего «Rex»’a. Я особенно подчеркиваю этот факт, потому что некоторые исследователи творчества художника считают, что картина написана много раньше[942]. Я помню эту картину незаконченной и должен сказать, что она по совету Бенуа и моему была выполнена на холсте. Все мы тогда очень советовали Чюрленису испробовать другую технику и сделать в ней монументальную работу. Возможно, что «Rex» был началом нового, неосуществленного цикла картин.
Открытая в 1908–1909 гг. выставка «Салон», на которой впервые экспонировались картины Чюрлениса, стала его триумфом[943]. За редкими исключениями критика оценила его правильно, Бенуа написал о нем восторженную статью[944].
Насколько я помню, Чюрленис уехал из Петербурга ранней весной. Осенью, когда он вернулся, я был долго занят в Москве, в Художественном театре, и в мое отсутствие он раз-другой навестил нашу семью, а потом исчез. Вернувшись в начале зимы в Петербург, я стал беспокоиться, что он не показывается у нас, и пошел к нему[945] (в то время он жил на Измайловском проспекте). Нашел его абсолютно больным. Я срочно сообщил об этом его жене в Вильну и его другу Ч. Саснаускасу, который жил в Петербурге. Больше я его не видел[946]: его увезли в Друскиники, а потом — в Варшаву.
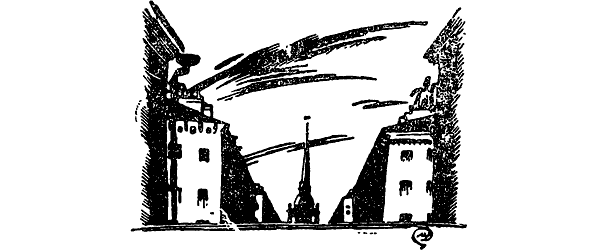
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК