О Художественном театре

Московский Художественный театр стал приезжать на гастроли в Петербург с 1904 г.[692], на 6-й год своего существования, и в нашем тесном кругу художников «Мира искусства», весьма театрально настроенных, его новые и свежие слова были приняты с громадным интересом.
В первые годы театр привозил чеховские пьесы, «Юлия Цезаря», «Царя Федора», «Доктора Штокмана», «Горе от ума» и др[угие], и то, что показал театр, по сравнению с тем, что большей частью царило в современной драме — с привычными шаблонами игры, неестественностью и декламацией, — было настоящим художественным откровением.
Все в Московском театре казалось необычным. Новым был уже его занавес в легких складках с изображением чайки — символа Художественного театра, не поднимавшийся, как всегда, а медленно раздвигавшийся, что сразу вводило в настроение «камерности» представления. В театре был запрещен вход в зрительный зал после начала действия (на что петербургская публика, привыкшая опаздывать, немало негодовала), и это придавало особенную серьезность спектаклю. Театр отменил и тот обычай, который теперь кажется невероятным: в тогдашних драматических театрах в антрактах обязательно играла музыка для развлечения публики, и эти вальсы и легкие вещи ничего общего с пьесой не имели. Озадачивало, что в театре не полагалось аплодисментов и вызовов, — это даже обижало публику. Нововведением было и то, что на программах не стояло, как всегда, «г-н» или «г-жа» такие-то, а И. М. Москвин, В. Л. Лужений. О. Л. Книппер, эти инициалы были и у игравших самые незначительные роли, что как бы выражало известное уважение к артистам. Слова «актер», «актриса» тут казались слишком грубыми.
Мы увидели на сцене не актеров, играющих «в публику», а подлинных живых людей, говорящих между собой обыкновенным неприподнятым тоном, как у себя дома, свободно двигающихся и даже поворачивающихся спиной к зрителю (что казалось многим особенно дерзким нововведением), и душевность, и простота их игры, и естественность полутонов и пауз трогали нас милой и правдивой интимностью. Даже артисты, играющие выходные и бессловесные роли, не были манекенами, как обычно, но и они создавали свой маленький художественный образ, не переигрывая при этом и оставаясь в общем ансамбле игры. Больше всего поражала именно эта слаженность ансамблей и любовная и тщательная законченность всего.
Знаменитые «настроения» театра создавались, помимо всего темпа игры, также тонким и изобретательным звуковым фоном, и «сверчки» москвичей сделались тогда крылатым словечком. Новыми были и необыкновенно искусные нюансы освещения, так помогавшие этим настроениям, изумляла и необыкновенная иллюзия солнечного света (как в «Юлии Цезаре»).
Изображая предельный реализм на сцене, театр отказывался от всякой условности и театральности. Для его духа это было логичным, но именно тут и было много такого, что нам, любившим в театре и его зрелищную сторону, казалось каким-то дефектом. Московский театр, показывая порой очень уютные и остроумно построенные интерьеры, точно боялся красочности и декоративности[693].
Живописная сторона его декораций или отсутствовала вообще или, как в «Юлии Цезаре», не поднималась выше Семирадского[694], а в «Царе Федоре» стояла лишь на уровне Конст[антина] Маковского, и очень многое нам, петербуржцам, искушенным в области стиля и историзма, казалось досадно несовершенным. Станиславский[695] гениально углубил задачи актера, но внешняя сторона постановок, по сравнению с его огромной реформой, не была на подобной высоте[696].
Тогда М[осковский] Х[удожественный] театр почти не выходил из пределов натурализма, хотя постепенно, но медленно его изживал и, идя своим путем, все же все время эволюционировал. В постоянных поисках был Станиславский, который являлся душой театра.
После первых петербургских гастролей Московского театра проходит несколько лет. За это время много нового созревает в художественном мире обеих столиц, и в театральной жизни наступает острейший период новшеств[697].
В общей волне М[осковский] Х[удожественный] театр ищет своего собственного обновления, и тогда происходит творческое сближение его с художниками петербургской культуры «Мира искусства»[698].
Это обращение Московского Художественного театра к петербуржцам, которое состоялось в 1909 г., в итоге, по существу, кажется особенно знаменательным. Наше сотрудничество явилось как бы одним из «мостов» между двумя такими различными мирами, какими были Петербург и Москва. Быт, психология и культура в каждой из столиц, которые и по облику своему были такими различными, имели свои особенности, и известно, каким вообще «чреватым» был этот замечательный дуализм русской жизни и истории.
В Петербурге уже создавалась тогда целая новая театральная культура. Налицо были уже новые художники театра, а «Мир искусства», как определенное течение, завоевывал уже общее признание.
Обращение театра к петербургским художникам было естественным и вполне назревшим шагом. Те, к кому обратился театр, были свежими людьми в театре, совершенно свободными от обычных традиций и ищущими нового.
Эти художники обладали серьезными знаниями разных исторических эпох и, главное (что было особенно ценно театру), — обладали чувством стиля.
В этом именно и требовалась помощь Московскому театру, который уже сам замечал и ошибки своего вкуса, и опасность «вариться в собственном соку», — ему мог угрожать тупик. Но мысль о привлечении этих художников в театре назревала медленно.
Почти все постановки, начиная с основания Художественного театра, были сделаны с участием художника Виктора Андреевича Симова, превосходно знавшего сцену и театральное освещение. Этот очень добросовестный и скромный художник дал все, что мог в обширном и разнообразном репертуаре театра, но не выходил из рамок того довольно бледного и бескровного реализма, который был у передвижников.
Лишь последние годы перед обращением театра к «Миру искусства» вошли в театр молодые московские художники Ульянов[699] («Драма жизни») и Егоров[700] («Жизнь человека» и «Синяя птица»); они внесли в эти подстановки красочное оживление и темперамент.
В московском окружении театра были настоящие его друзья, сочувствующие всем начинаниям театра, которые часто откровенно осуждали недостатки декоративной стороны постановок и давно советовали Станиславскому привлечь новые силы — именно петербургских художников. «Мира искусства»[701].
Есть основания думать, что Станиславский, привыкший работать с художниками, точно следовавшими его указаниям, долго колебался, боясь «засилья» этих новых художников[702] из-за слишком определенной их индивидуальности. Но, ближе познакомившись с нашим кругом, он, наоборот, увидел возможность самого интимного сближения.
Приглашение это явилось в московской театральной жизни первым случаем обращения Москвы к Петербургу, и не будет слишком громким сказать, что тут произошло, хотя и в специальной области театрального творчества, соприкосновение московской и петербургской культур.
Беспристрастно можно сказать, что результаты нашей связи с театром были поистине счастливыми. Удача была в том, что у нас с москвичами оказалась одна общая почва: все мы горели настоящей любовью к театру, а у меня лично каждая моя постановка была огромным подъемом, за радость которого я остался навсегда благодарным театру.
«Месяц в деревне»

Первое знакомство Станиславского с нашим кругом художников «Мира искусства» произошло за год до нашего приглашения, — в 1908 г.[703] Станиславский, приехавший зимой того года в Петербург, побывал у Александра Бенуа, который был центром нашего круга, встретился со многими другими художниками (посетил, между прочим, и меня) и видел много наших работ. Все показывало большой интерес его к нашему искусству, но в этот приезд никаких разговоров о сотрудничестве не возникало.
Вскоре после этого, на Масленице 1909 г., я был в Москве по выставочным делам и, вспомнив приглашение Станиславского побывать в Художественном театре, был на «Синей птице», которая только что была поставлена.
Станиславский был необыкновенно мил и радушен, я сидел в партере рядом с ним и помню, как он внимательно следил за игрой и как порой лицо его расплывалось в улыбку. Такую же улыбку я у него видел впоследствии на репетициях и в самых драматических местах, когда он был доволен искренностью его артистов. В антракте он меня сводил на сцену и показал, как делаются разные сценические трюки, — в «Синей птице» они всех интриговали и поражали. Это была редкая честь для гостя: сцена в Художественном театре была «святое святых» — для публики совершенно недоступное место, так как за кулисы посторонние абсолютно не могли проникнуть.
На первой неделе Поста в МХТ устраивался всегда традиционный актерский капустник — «похмелье после Масляной», и я получил приглашение посетить это редкое зрелище. Капустники были закрытые, и [прошло] лишь два года, как театр стал на них пускать публику по особым приглашениям; хотя билеты раздавались с большим выбором, но присутствовала «вся Москва» — капустники становились событием сезона.
Душой всевозможных дурачеств, пародий и экспромтов был Никита Балиев[704] (игравший всегда только маленькие роли в театре), который был тогда в своем расцвете как выдумщик и балагур. Из капустников (и актерских вечеринок в доме Перцова), где, кроме Балиева, расточали свое весьма талантливое остроумие артист Н. Н. Званцев, режиссер Суллержицкий и весельчак, друг всей Москвы, скрипач Аверино, — и родилась впоследствии «Летучая мышь».
На этом капустнике я познакомился с очень многими артистами, впоследствии ставшими мне такими близкими и дорогими людьми.
В этот мой приезд в Москву Станиславский просил меня задержаться для важного, по его словам, разговора, который вскоре и состоялся в отдельном кабинете ресторана Эрмитаж. Кроме него и Немировича-Данченко[705], присутствовали Качалов[706], Лужский, Вишневский, Москвин, Леонидов[707] и О. Л. Книппер[708] — основатели и пайщики Художественного театра.
Разговор был действительно важный, и не только для меня, так как имел большие последствия в жизни театра: Станиславский к полной моей неожиданности предложил мне сделать постановку «Месяца в деревне» Тургенева и вместе с тем просил передать Александру Бенуа и другим моим коллегам по «Миру искусства» о желании театра соединиться с ними в непосредственной тесной работе.
Он и Немирович-Данченко мне объяснили, что Художественный театр не удовлетворен тем, что у них делается в смысле декораций, роли художника они хотят отвести гораздо большее место, хотят свежих людей и их «нового слова» и потому ждут от нас, столь ими ценимых за знание стилей и вкус, помощи и ближайшего сотрудничества.
Когда Станиславский высказал все эти пожелания, то, как ни обрадовало и ни взволновало это предложение, обращенное к нашей группе, я сам лично был искренне смущен предложением мне пьесы Тургенева. Реализм на сцене мне представлялся тогда чем-то пресным, и я прежде всего подумал, что эта работа меня не захватит, что вообще будет неинтересно и я не справлюсь с задачей. Впрочем, думая так, я очень слабо помнил «Месяц в деревне» из чтения и никогда не видел его на сцене.
И тут я совершенно растерялся и не знал, что ответить. Сошлись на том, что я подумаю и напишу из Петербурга. В душе мне совершенно искренне казалось, что театр обращается не по адресу — Бакст или Сомов мне представлялись именно теми художниками, которые должны были бы поставить эту пьесу Тургенева.
Я уехал из Москвы с поручением передать нашей группе о чаяниях театра и с просьбой Станиславского сообщить, кто из нас и что именно хотел бы ставить в Художеств[енном] театре, кого вообще к чему клонит.
По приезде в Петербург я собрал моих друзей-художников и сообщил им о предложении.
Предложение театра всех чрезвычайно заинтересовало, и после всех наших разговоров я мог написать Станиславскому[709], что петербургские художники «Мира искусства» с радостью принимают предложение сотрудничества и что Бенуа интересуется Мольером, Рерих — Ибсеном, Кустодиев — Островским и Билибин — русскими историческими пьесами. Бакст же, о котором я думал, что он заинтересуется пьесой Тургенева, от своего Biedermayerzeit[710] уже в ту пору отошел и находился в увлечении Элладой и, хотя мечтал о постановке античной трагедии, не мог отозваться на предложение, так как был уже одной ногой в Париже (в 1909 г. начались «Русские сезоны» Дягилева). Сомов отказался вообще, потому что, хотя и был «записным театралом», но театром никогда не занимался, ибо ему казалась мучительной работа, где между его идеей и ее осуществлением стоит столько людей, что в театре неизбежно.
Что касается меня, то я признался Станиславскому, что мечтаю о Шекспире и Метерлинке, но что сделать «Месяц в деревне» готов… Я решился на это после того, как все мои друзья в один голос стали меня убеждать.
Эпоха Тургенева, особенно 1830–1840-е годы, была мне душевно близка — театр мог знать мои иллюстрации и картины на тему этих старых годов[711], — и довольно хорошо был знаком мне и помещичий быт: часто гостя с ранней юности в Тамбовской губернии у матери, я перевидал немало старых дворянских гнезд на их закате[712]. И хотя я был и не безоружен, у меня были все же невольные колебания.
На мое письмо, где я подробно о всем написал, я получил восторженный ответ от Станиславского[713], который предвидел в дальнейшем много плодов от связи с «Миром искусства», но в первую очередь, на ближайший сезон намечался «Месяц в деревне», и мне было предложено приступить к этой работе теперь же и приехать для разговоров в Москву, что я и сделал, предварительно вчитавшись в пьесу. В ней я открыл много меня даже взволновавшего.
Таким образом, судьба пожелала, чтобы я первым из «Мира искусства» вступил в тесное общение с Московским Художественным театром, и 1909 год стал для меня моим «историческим» годом. Станиславский ввел меня в самую интимную сторону работы, и с тех пор я мог назвать себя его учеником. Я имел счастье и лично сблизиться с этим замечательным человеком.
С этого времени в течение восьми лет лишь с немногими перерывами продолжалась моя работа с театром, я стал жить подолгу в совершенно новом для меня мире — Москве — и, можно сказать, вошел в «лоно» Художеств[енного] театра.
Связь с «Миром искусства» выразилась за период с 1909 по 1917 г. в семнадцати постановках, сделанных в театре Добужинским, Рерихом, Бенуа и Кустодиевым (в порядке начала их работ)[714]. Бенуа, кроме того, принимал самое ближайшее участие и в режиссуре. Долговременное сотрудничество его, человека исключительной культуры и дарований, зачинателя самого «Мира искусства», следует особенно отметить.
В Москву я приехал по вызову Станиславского в марте того же 1909 г… За это первое мое «деловое» пребывание я успел ознакомиться с очень многими постановками театра — Станиславский очень хотел, чтобы я узнал все, что они делали. Я особенно был восхищен «Тремя сестрами» и еще больше «Вишневым садом». Я был в легком угаре от этой близости к театру, и хотелось даже прощать ему те недочеты, которые я и раньше видел, а теперь особенно от них страдал. Разбираясь в этих «ошибках», я вскоре понял главную их причину: художник, работавший в театре, был чересчур связан всевозможными указаниями режиссера и работал как бы под его диктовку, и собственное творчество проявить было трудно. Тот метод работы, который теперь мне предложил Станиславский, был совершенно иным, и, главное, я увидал, что у него было доверие к художнику, которое могло только окрылять.
Самим Станиславским я был совершенно очарован, что для знавших его лично понятно. Беседы наши и работа над «Месяцем в деревне» происходили всегда у него в Каретном ряду[715] в самой интимной обстановке.
В год «Месяца в деревне» Станиславскому было ровно 50 лет[716]. Седая его голова, необыкновенно густые черные брови и огромная статная фигура (он был головой выше меня) были необыкновенно оригинальны. Он долго носил пушистые черные усы, но в то время был брит, и лицо его напоминало портрет вельможи екатерининского или александровского времени. При всей импозантности и великолепии его фигуры (в этом он напоминал Шаляпина) и удивительно красивом голосе[717], в котором порой могли звучать властные ноты, — в облике его было нечто на редкость милое и приветливое, иногда даже до странности застенчивое, и всем знакомая вежливость его иногда даже бывала трогательно забавной. Типично русского в его внешности казалось мало — недаром его бабка была француженкой, чем он, кажется, немного гордился.
Происходя из знатной московской купеческой семьи Алексеевых (его родственник был известный московский городской голова Алексеев), он, будучи директором театра, не терял связи со своей наследственной фабрикой. Это было очень курьезно и по-московски — в какой-то определенный день месяца он удалялся от театральных дел и занимался на своей фабрике золотых ниток и канители. В театре говорили с уважением: «Старик на фабрике» — и даже не острили над этой канителью. Вне театра об этом мало кто знал, а кто знал, находил это естественным и почтенным.
С Константином Сергеевичем, несмотря на порядочную разницу лет, у меня сразу возникло большое душевное сближение. Он меня мало стеснял и умел необыкновенно уютно беседовать.
Задача, которая стояла передо мною в «Месяце в деревне», была гораздо глубже и больше, чем просто создать «красивую рамку» пьесы. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы, и то, что открывал мне Станиславский, было огромной для меня школой.
Как я уже упоминал, «Месяца в деревне» я никогда не видел на сцене, хотя пьеса часто шла в Александринке[718] с Савиной, но это было лучше, так как [я] мог подойти к задаче совсем свежо. «Месяц в деревне» был Станиславским несколько сокращен — были выпущены некоторые слишком большие длинноты, особенно в монологах. Сделано это было с большой тщательностью и обдуманностью.
С самого начала, когда мы с ним стали вчитываться в каждый акт и разбирать пьесу, он предварил меня, что пусть меня не связывают ремарки Тургенева, описывающие каждый акт, — где дверь, где окно и т. д., ибо это отголосок традиционных театральных декораций того времени[719], чего нет надобности держаться, и потому мне открывалась тут возможность разнообразных выдумок.
Но Станиславский, вводя меня в мои задачи и ожидая от меня моих идей, с самого начала разъяснил мне, что декорация, вернее, план сцены должен быть органически связан с действием и что тут тесно сплетаются одновременно режиссерские и художественные соображения.
На очень многое у меня открылись глаза, когда он сказал мне: «Декорация должна как бы вырастать из пола», и этот «половой вопрос», как он, шутя, говорил, и был самым главным сначала, который надо было нам совместно решить, обсудив все планировочные места, выходы и «опорные пункты» игры каждого акта.
В то же время он ждал от меня, чтобы в конечном итоге декорация отвечала духу пьесы и смыслу ее, в данном случае — картине уютной и тихой помещичьей жизни, где в доме все места «насижены», все устойчиво и куда врывается «буря», но, когда она утихает, все остается на своем месте, и жизнь опять течет по прежнему руслу.
С эскизами Станиславский меня не торопил, он просил приносить сначала наброски «карандашиком на кусочке бумажки», как он говорил, и мы вместе комбинировали всевозможные мизансцены[720]. Такой способ работы делал ее особенно интересной и давал возможность всякой изобретательности, но шел я не только одной логикой. Как художнику, мне естественно было исходить от формы, «начинать с конца», представлять себе как результат и самую декорацию, думать и о чисто декоративном впечатлении от нее, но думал о ней я и как режиссер, чтобы она помогала актеру. Моя работа шла одновременно в этих двух направлениях.
Об этой первой стадии нашей совместной работы над «Месяцем в деревне» Станиславский подробно и очень тепло вспоминает в своей книге «Моя жизнь в искусстве»[721]. Между прочим, он пишет, что тогда «хитрил» с художником, незаметно для него наводил его на нужные идеи[722], впрочем не насилуя при этом его воображения.
Но я отлично помню, что именно принадлежит моей собственной выдумке и что часто бывало моей интуитивной находкой. «Хитрить» мне не приходило в голову, но мои мысли как раз очень часто счастливо совпадали и с его мыслями.
Такими «осенившими» меня чисто декоративными идеями была полукруглая зала с симметрично расставленной мебелью и угловая диванная. Эта симметрия и «уравновешенность», которая так типична для интерьера русского ампира, отвечала и намерениям Станиславского в этой постановке создать атмосферу спокойствия и дать внешнюю неподвижность актерам при всей внутренней напряженности чувства и как бы «пригвоздить» их к местам. Этот характер игры был одним из этапов в режиссерском творчестве Станиславского. Мой план оказался и тут подходящим для темпа пьесы.
Вся постановка «Месяца в деревне» оказалась построенной на симметрии.
Но принцип этот (я это подчеркиваю) не был предвзятым и надуманным теоретически, не во имя симметрии были сделаны мои декорации, она родилась сама собой во время нашей совместной работы со Станиславским и была подсказана внутренним духом действия, вылилась из режиссерских задач, а внешне была у меня навеяна чисто интуитивным декоративным воображением и воспоминаниями. Но было как бы чудо в том, что произошло слияние всего этого. Незаметно для себя в этой постановке мы вернулись к забытой, но испокон века существовавшей в театре симметрической декорации. Но теперь, после реалистических декораций Художественного театра, это показалось новым и свежим, и симметрия действительно могла дать стройность и архитектурность постановке «Месяца в деревне».
Дальнейшая разработка моих проектов была уже всецело в моих руках. Тут Станиславский предоставил мне полную свободу.
Я уже носил в себе тогда чувство «художественной экономии» и вкус к «минимуму» на сцене, и в этой работе я старался отказаться от декоративных излишеств, которые так бывают соблазнительны в театре, но отвлекают внимание зрителя от актера и ему самому мешают. Эта внутренняя добровольная самодисциплина явилась и следствием всего того, что я вынес из бесед со Станиславским. В них мне открывалось много нового, что, впрочем, отвечало и моим собственным предчувствиям, и все это делалось тем фундаментом, которому я старался быть верным и остался верным и в будущем[723].
В работе для «Месяца» меня, конечно, волновало выразить и лирическое настроение пьесы, и при той любви, которая у меня рождалась и росла к ней, это выходило само собой и было естественным. Как это делалось, самому мне труднее всего объяснить.
Для тона пьесы была недопустима какая-либо подчеркнутость. Были уместны лишь «намеки». Мирной деревенской жизни в «Месяце» грозит душевная буря. И на стенах голубой гостиной меня «осенило» сделать две большие картины: морской шторм в духе Жозефа Верне и извержение Везувия. Эти темы были привычны и типичны именно для русского помещичьего интерьера, это исключало их нарочитость, но в то же время давало намек умеющим видеть и создавало известное настроение акту.
Чтобы создать на сцене помещичий дом 1840-х годов, было изобилие всяческих материалов. Помогали мне и впечатления виденного в русских поместьях (так, например, беседка из старых лип, использованная в декорации сада, была в имении моей матери). Разумеется, я не имел в виду никакого определенного имения, и дом Ислаевых был плодом моей фантазии.
Эскизами я занялся зимой в Петербурге, и, когда в мае театр приехал на гастроли, они были почти готовы[724]. Рисунки костюмов и бутафории я должен был сделать летом.
К концу пребывания театра в Петербурге можно было приступить к исполнению декораций.
В Петербурге я все лето был занят писанием декораций. Была нанята знакомая мне раньше большая мастерская в закрывшемся уже тогда театре В. Ф. Комиссаржевской, и в помощники я себе взял опытного и милейшего Н. Б. Шарбе[725], которого мне рекомендовал Бакст и с которым мы все от начала до конца написали.
Я часто оставался ночевать в пустом театре, где была мне устроена маленькая комната, и ночью приходилось ощупью идти через темную сцену, натыкаясь на кулисы, и слышать, как бегают крысы, а иногда вдруг, шурша, развертывалась висячая декорация, и это было довольно романтично. Спичку я зажигать боялся из-за страха, не дай бог, пожара. Я так уставал, что крепко засыпал на своем диванчике под музыку, доносившуюся из соседнего увеселительного сада. И эта музыка, томительные белые ночи, чахлые березки под окном — все очень поэтично связалось в памяти с этим летом и моим «Месяцем в деревне».
Я отдыхал на даче в Ораниенбауме, где за лето нарисовал все костюмы и рисунки мебели и еще успел съездить к моей матери в Кирсанов, и тамошние кущи рощ и полосатые нивы мне пригодились для моей декорации сада.
В конце августа все декорации были уже на месте, и меня пригласили в Москву, чтобы их проверить и проверить костюмы. Тогда же должны были начаться уже и репетиции «Месяца в деревне».
Я приехал с вокзала прямо в театр. В зрительном зале меня уже ждал Станиславский и вся труппа, и была повешена и освещена декорация сада, и какой был для меня сюрприз и какое я испытал волнение, когда вдруг при моем входе в зал все стали мне долго и горячо аплодировать…
Станиславский подошел ко мне и благодарил меня. Я был как в тумане. Мне говорили, что «таких декораций еще в театре не было», и я видел по улыбкам и приветливым глазам, как искренно все радовались.
Мне самому эта декорация, которую я видел лишь на полу мастерской, теперь освещенная так, как умели это делать только в Художественном театре, показалась ожившей и полной прозрачного воздуха, и я убедился, что был прав в технике ее почти «графической» живописи. В моем сознании это был как бы выдержанный экзамен.
Я остановился было в гостинице, но Станиславский меня сразу же попросил переехать к нему, и с тех пор в течение нескольких лет каждый раз, приезжая в Москву, я направлялся с вокзала прямо к нему, в Каретный ряд.
Мне была дана маленькая тихая комната с отдельным ходом с лестницы и с видом на дворовые крыши, где ворковали голуби, которая и прозвана была с тех пор в семье Станиславского «комнатой Добужинского»[726]. Они снимали целый особняк, настоящий московский, с просторными комнатами, всегда зимой жарко натопленными, и с деревянной широкой лестницей, увешанной бутафорским оружием. Обстановки в доме, собственно, никакой не было, стояли какие-то гигантские готические шкапы (кажется, оставшиеся от всерьез сделанной бутафории «Уриеля Акосты»), и все было большое, под стать хозяину. Стены оставались голые, лишь впоследствии в столовой сиротливо висел подаренный мной Станиславскому итальянский этюд[727].
Старый его камердинер, очень милый старик с седыми усами, Василий Алексеевич, весь день шаркал туфлями и трогательно заботился обо мне, совсем как о члене семьи, любил побеседовать, и было уютно, что его фамилия тоже Алексеев, какой была настоящая фамилия Станиславского.
С семьей Станиславского у меня создались самые дружеские отношения, которые остались на всю жизнь.
Утренний чай мы наспех пили всегда вместе с К[онстантином] С[ергеевичем] и затем на извозчике, которого он звал с подъезда зычным голосом, ехали в театр. Станиславский трусил каждого перекрестка, ненавидел быструю езду и всегда препирался с извозчиком, хватая его за кушак. Великолепная фигура его всегда обращала на себя общее внимание, и ехать с ним как-то было даже неловко. Я любил всегда, и все будущие годы, объединяться с К[онстантином] С[ергеевичем] по вечерам, после спектакля. Нас ждал самовар и всякая холодная закуска, на которую К[онстантин] С[ергеевич] обыкновенно набрасывался: «Я, собственно говоря, обжора».
Очень часто тогда приезжал кто-нибудь из театра — Ольга Леонардовна Книппер, Москвин, одно время зачастил Качалов, бывал и А. А. Стахович, — и никогда Вл[адимир] Ив[анович] Немирович-Данченко. Во время «Месяца в деревне» я всегда встречал у К[онстантина] С[ергеевича] маленького живого Суллержицкого, Сулера, как его звали, в театре, человека необыкновенно талантливого на все руки, веселого и забавного собеседника. Перед тем как отдаться театру, у него была совершенно необыкновенная жизнь: он был очень любим Львом Толстым, был преданный его последователь, и, когда духоборы, которым помогал Толстой, переселились в Канаду[728], он туда их сопровождал. Об этом и вообще о себе и Льве Николаевиче он рассказывал замечательные вещи.
Мы засиживались иногда до очень позднего часа и часто по уходе гостей еще продолжали беседовать вдвоем с К[онстантином] С[ергеевичем]. Именно тогда, в эти ночные часы, обсуждались разные будущие проекты. Однажды, в позднейшее время, мы с К[онстантином] С[ергеевичем] несколько ночей подряд фантазировали на тему, какие «вообще» могут быть декорации в театре — писаные, ширмовые, архитектурные, драпировочные, проекционные и т. д. со всякими их комбинациями и вариантами. К сожалению, у меня не сохранились сложнейшие и довольно, чудаческие диаграммы, наброски и чертежи, которые мы тут делали.
У меня было много работы в самом театре — по установке декораций, их освещению и наблюдению за выполнением мебели (которая вся делалась по моим рисункам) и костюмов. Репетиции шли в моих декорациях, и актеры репетировали часто в костюмах. На репетициях «Месяца» я постоянно присутствовал, и работа Станиславского мне была бесконечно интересна[729]. Во время игры он все время делал заметки и по окончании отдельной сцены или целого акта разбирал игру каждого артиста в присутствии всех остальных. Я не помню, чтобы были какие-нибудь нелады. Эта постановка создавалась удивительно гладко.
Станиславский был в самом разгаре своих исканий и постепенно создавал свою систему, работая над актерами. На репетициях я знакомился с его идеями, но мне, непосвященному, удавалось улавливать лишь отрывки. То, что называлось «переживаниями», и ходячие тогда выражения «круг» и «сквозное действие» — постепенно все делалось понятным именно на репетициях, где я видел, как ставились и разрешались самые тонкие психологические задачи.
Во время подготовительной работы самого спектакля (репетиций было 114!) я тесно сжился с самой пьесой. Она раскрывалась на моих глазах и наполнялась подлинной жизнью, и актеры становились для меня больше, чем простыми исполнителями ролей. Я верил в Ракитина — Станиславского, верил в Верочку — Кореневу[730], верил в Наталью Петровну — Книппер и в других, и все эти образы делались мне близкими, как живые люди.
Спектакль «Месяц в деревне» состоялся 9 декабря 1909 г. Произошло то, что еще не случалось в Художественном театре: аплодировали декорациям при поднятии занавеса[731]. Среди всяких комплиментов, которые меня весьма стесняли, больше всего мне было радостно то, что говорил Станиславский и артисты, — что декорации им давали большой подъем и помогали их настроениям. Было очень забавно, что многие из публики утверждали, что мои декорации изображают какое-то определенное имение, но одни называли одно, а другие — другое и даже спорили![732]
«Месяц в деревне» был действительно событием в истории Художественного театра и по новому принципу: максимума духовной выразительности при скупости движений актеров, по замечательной игре их и по той тургеневской лирике, которою действительно была проникнута вся постановка Станиславского. О спектакле единодушно писали в московской прессе самые восторженные вещи, печатались и репродукции декораций. Фотографии же постановки с того времени всегда висели в фойе театра.
В счастливом моем настроении одно только мне мешало: мне было неловко и как-то конфузно перед художником Художественного театра В. А. Симовым, которого мне пришлось как бы «устранить». Встречаться с ним мне приходилось редко, и, чувствуя точно какую-то вину перед ним, я не знал, как себя держать. Впрочем, он продолжал работать в театре, и, может быть, это было влияние петербургских гостей[733], но его постановки пьесы Островского «На всякого мудреца» и особенно «У жизни в лапах» отличались и большой простотой, и даже цветистостью.
После всего длительного подъема, в котором я был во время создания «Месяца», — то же бывало всегда и позже в подобных случаях — я чувствовал тягостную пустоту: все было окончено, я становился лишним и лишь завидовал актерам, которые теперь только начинали жить данной им жизнью. В Петербурге я заполнял эту пустоту, делая postscriptum к моей работе, совершенствуя эскизы и начав некоторые наново[734]. Сделал также для «Аполлона» серию виньеток, посвященных «закулисной» жизни пьесы[735] — тому, что есть в ее намеках. Впоследствии два моих эскиза были приобретены с выставки «Мира искусства» в Третьяковскую галерею[736].
Сентиментально утешил и позабавил меня и тот смешной сюрприз, что, когда я собрал все, что у меня накопилось от моей постановки, и написал на большой папке этого архива инициалы пьесы: «МВД», я увидел, что это инициалы моего имени, отчества и фамилии! Утешался я и тем, что увижу весной мое «детище» на гастролях театра в Петербурге, а главное, что мне в будущем предстоит новая работа в Художественном театре. Я уехал из Москвы с этим обещанием Станиславского.
В мае 1910 г. МХТ привез «мой» «Месяц в деревне» в Петербург. Декорациям хлопали, как и в Москве, и на премьере пьеса была принята так горячо, что театр нарушил все свои традиции, и по окончании спектакля на сцену вышли все артисты со Станиславским, который вывел и меня. Словом, это был настоящий триумф «Месяца».
Меня познакомили с Савиной. Ее ядовитые слова (не из ревности ли?) относительно обеих актрис, Книппер и Кореневой, игравших обе ее «коронные» роли — Натальи Петровны и Верочки (для нее Тургенев написал Верочку), — были несправедливы, и ее томный комплимент: «Как бы я хотела сыграть в Ваших декорациях»[737] — меня не тронул. «Нововременская» критика пьесы была кислая и пристрастная[738], и хотя мы в «Мире искусства» привыкли сентенции этой газеты игнорировать и лишь забавлялись ее желчью, тут это, помнится, крайне меня раздражало: Художественный театр стал «моим», и я уже жил его огорчениями и обидами.
Я, конечно, не пропускал ни одного спектакля «Месяца в деревне» и всегда выносил из театра радость. Каждый раз я видел новые штрихи в игре артистов, которые все время ее совершенствовали и сохраняли прежнюю свежесть.
Однажды заболел Грибунин, игравший роль доктора, и экспромтом его заменил Москвин, и так как он не успел приготовить роли, ему дали книжку, с которой он выходил и в нее заглядывал. Это было очень смело и могло казаться смешным, но публика это приняла как должное, такое было уважение к театру.
Довольно наивно, что Станиславский, чтобы эта книжка была «незаметной», просил меня покрасить ее в синий цвет докторского сюртука, что для этой «мимикрии» я и сделал.
Тургеневский спектакль
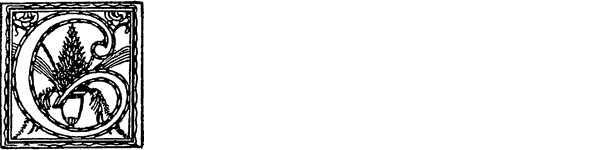
Следующая моя работа в Художественном театре был Тургеневский спектакль: «Нахлебник», «Где тонко, там и рвется» и «Провинциалка», но Станиславский перед этим долго колебался с выбором пьесы. Я часто приезжал в Москву для бесед с ним, но он ни на чем не мог остановиться. То была мысль возобновить «Чайку», то поставить «Бешеные деньги» Островского, то «Женитьбу» Гоголя, то «Вишневый сад» по-новому («У нас есть „Вишневый сад“, но сада самого нет — сделайте нам так, чтобы в окно пахнуло этим цветущим садом», — говорил мне Станиславский). Но ни на чем особенно я не мог «зажечься», хотя я и начинал делать эскизы «карандашиком на кусочке бумажки» и Станиславский их одобрял; к Чехову же я не знал как подойти — задача мне казалась очень трудной, особенно для «Вишневого сада», постановку которого, такую, как есть, я полюбил. Хотя я и видел ее недочеты, но мне казалось кощунством менять то, что так долго жило и было сделано при Чехове.
После всех колебаний, уже в начале 1911 г., решен был Тургеневский спектакль.
Работая для Тургеневского спектакля, я находился в прежних настроениях «Месяца», но эпоху (в «Месяце» 40-е годы) я взял другую: для «Нахлебника» — 1830-е годы, для «Где тонко» — 50-е и для «Провинциалки» — 60-е, и со Станиславским мы очень согласно выработали все планы. Первоначально мой эскиз для «Где тонко, там и рвется», который Станиславский принял, был розовый зал «в духе Растрелли»[739] (в пьесе говорится о Растрелли), и к приезду театра в Петербург, в мае 1911 г., декорация мной была уже написана и по просьбе Станиславского поставлена на сцене Михайловского театра[740] для осмотра. Хотя декорация была эффектно освещена, мне она показалась тяжелой. Кроме Станиславского и меня, на этот показ был приглашен Немирович-Данченко и А. Н. Бенуа, и мы вчетвером в один голос решили: это не для «Где тонко…». Кто знал Станиславского, может представить, как он, конфузясь и бася, сказал мне: «Ради бога, простите, но это — для оперы, так и кажется — вот выйдет тенор и, прижимая руку к сердцу, станет выводить рулады. Это моя ошибка, что утвердил эскиз и Вас заставил напрасно работать, но и Ваша вина, что Вы эскиз сделали талантливо, я и поверил». Немирович нашел, что зал слишком роскошен для помещичьего дома, а Бенуа сказал, что [это] скорее не Растрелли, а Штакеншнейдер[741]…
Я со всеми ими был вполне согласен.
Надо было искать нечто другое, то, что действительно бы отвечало легкости пьесы и было бы именно «тонко». Тут же мы решили, что упоминание о Растрелли, сбившее меня, можно игнорировать: в стилях при Тургеневе у нас не особенно разбирались, и авторству Растрелли любили приписывать что угодно. Это меняло задачу и освобождало меня от того «рококо», которое у меня действительно получилось неубедительным и грузным.
Вероятно, только один Художественный театр так честно избегал ошибок. Декорация была отменена и даже применена ни к чему не была.
Новая идея декорации в эскизе у меня возникла скоро, она была гораздо легче и воздушнее первой: бледно-зеленый зал с архитектурой в духе Камерона[742], с большими окнами до полу, в которых виден широкий светлый пейзаж, — это и было уже «где тонко».
Но до самого Тургеневского спектакля было еще очень далеко, и я, лишь постепенно выясняя все в по-прежнему дружеских и интереснейших беседах со Станиславским, готовил другие эскизы к нему. Театр был отвлечен другими большими работами: после «Месяца в деревне» в 1910–1911 гг. были поставлены «На всякого мудреца» Островского («Мудрец», как его называли в театре), «Братья Карамазовы», «Miserere», «Живой труп» и долго и мучительно рождавшийся «Гамлет»[743]. Многое творилось на моих глазах, было мне очень близко и дорого, но создавалось без всякого моего участия. Больше всего меня взволновала замечательная постановка «Братьев Карамазовых», и я ревновал: о Достоевском я давно мечтал — впрочем, его и дождался позже.
Бенуа, который был так желателен театру, был еще занят в Париже (в 1911 г. он поставил своего «Петрушку»), и все, что там кипело, проходило без меня (лишь в 1914 г. я был привлечен в дягилевские балеты[744]) — теперь же я весь ушел в жизнь Художественного театра и по целым неделям жил в Москве.
В театре я долгое время чувствовал себя немного «гостем». При встрече сначала говорили: «Вы давно приехали?», а потом это заменялось: «Вы еще долго пробудете?» или «Скоро уезжаете?», и я смеялся, что, вероятно, это означает, что пора домой. В ту пору я ни с кем особенно не сошелся, но все были очень приветливы, особенная же, чуть подчеркнутая вежливость, я заметил, была общим свойством артистов МХТ. Качалов, которого я помнил еще виленским гимназистом и с которым я постоянно встречался, как-то не располагал к близости и был менее всего москвичом, не так как иные — «с душой нараспашку». Но мне всегда нравились его сдержанность и джентльменство.
Более всех был ласков Лужский, шумный, веселый, живой, немного актерствовавший в жизни, и с ним тоже я ближе сошелся лишь позже, благодаря «Бесам» и «Розе и кресту», где он принимал участие в режиссуре. Я охотно бывал в его комфортабельном и уютном доме, как и у О. Л. Книппер, с которой всегда было просто и весело.
О Станиславском я не говорю, к нему у меня была настоящая влюбленность.
Я сразу же был очарован Алексеем Александровичем Стаховичем. Как актер он появился в театре в 1910 г., когда сыграл князя Абрезкова в «Живом трупе», но давно был другом Художественного театра. Тогда он только что вышел в отставку из свитских генералов и стал 3-им директором театра. Шутники говорили, что его пригласили, чтобы «полировать» актеров и учить их светским манерам. А[лексей] А[лександрович] был одним из самых замечательных шармеров, каких мне приходилось встречать в жизни, был «барин» с головы до ног и прост и ровен со всеми. Я часто видел, как он, сидя в буфете с каким-нибудь скромным «сотрудником», весь наклонялся к нему, держа ладонь возле уха, и выслушивал его, полный внимания и участия… Он бывал душой собраний у Станиславского и рассказчик был талантливейший. Помню его еще с бородой — таким и с моноклем в руке он и запечатлен на портрете Серова. Когда он по-актерски побрился, — со своим орлиным носом, черными бровями и круглым лицом он стал совершенный римлянин. Его всегда вспоминаю с необыкновенно тоненькой папироской. Позже, уже во время войны[745], несмотря на разницу лет, мы очень сошлись и перешли даже на «ты». Я иногда живал у него в квартире и мог вдосталь наслушаться его всевозможных воспоминаний, особенно из придворной, светской и театральной жизни Петербурга времен его молодости. Так мне жаль теперь, что и в голову не приходило что-нибудь из этого записать.
По утрам, спозаранку, я уже слышал его шаги, он ходил взад и вперед по соседней комнате, нетерпеливо дожидаясь 8 часов, когда сможет меня разбудить, чтобы поговорить. Он появлялся в длинной старомодной ночной сорочке до пят, с головой, повязанной платком или сеткой для прически с неизменной тоненькой папироской и с моноклем в глазу на широкой черной ленте. Он присаживался, и начинались рассказы.
С Вл[адимиром] Ив[ановичем] Немировичем-Данченко я еще в ту пору был далек и его оценил и даже душевно сошелся с ним позже, в нашей незабвенной с ним работе над «Бесами». Он, 2-й директор Московского Художественного театра, был полной противоположностью Станиславского, и ничего московского в нем не было. Безукоризненно одетый (он носил всегда цилиндр), с аккуратно подстриженной бородой, со сдержанными манерами, с размеренной, спокойной речью, Немирович был как бы «сдерживающим центром» для порывов Станиславского, и его спокойствие и здравомыслие Станиславским очень ценились, и всегда каждая его постановка перед концом проверялась этим умнейшим и тактичнейшим человеком. И наоборот, каждая постановка Немировича коррегировалась Станиславским (один как бы смягчал углы и закруглял, другой придавал, где надо, «перцу» и обострял). Этот «симбиоз» держался очень прочно и чрезвычайно редко возникали между ними трения.
Я полюбил самый театр с его круглым коридором, темным днем, покрытым коврами, где шаги были совершенно бесшумны. По утрам из далеких верхних фойе доносились экзерсисы и сольфеджио и придавали особенный уют этим рабочим утрам[746].
Я с интересом сидел на репетициях, когда они шли на самой сцене, но, к сожалению, не видел предварительных работ «за столом», что происходило в разных помещениях театра, — делалось это келейно и совершенно интимно.
В перерыве репетиций буфет (с весьма скромными «студенческими» завтраками) был переполнен, тут и начались мои многие новые знакомства.
Актрисы в театре одевались очень просто, даже казались полумонашенками, и всегда были гладко причесаны (в театре они никогда не появлялись в шляпках — это считалось просто преступлением!). Даже разбитная и веселая Ольга Гзовская, тогда только что появившаяся, старалась держаться общего тона.
За порядком и строжайшей дисциплиной, которая царила в театре, наблюдал отставной полковник фон Фессинг, называвшийся очень грозно — полицмейстер театра. Это был чрезвычайно прямой и сухощавый невысокий офицер с большими усами, всегда не только корректно, но торжественно вежливый, который не входил ни в какие посторонние разговоры. «Потрудитесь, пожалуйста, с этим вопросом обратиться к господину директору Константину Сергеевичу Станиславскому» — отчеканивал он. Изредка его белый драгунский воротник с пуговицей мелькал и в буфете, через который он безмолвно проходил, позванивая шпорами. Но обычное место его, вооруженного очками, было за конторкой в приемной театра. Ему подчинен был большой штат сторожей или капельдинеров театра, одетых в коричневую форму. Они играли большую роль в будничной жизни театра, особенно хитроватый толстый Григорий Максимыч, общий фактотум, и спокойный бородатый Константин. Первый всегда безошибочно предсказывал, будет или не будет успех той или иной пьесы, и с этим, кажется, даже серьезно считались.
За буфетными столиками велись часто самые беспечные разговоры. Я особенно веселился, слушая импровизации Лужского. Он с невозмутимым лицом любил изображать какие-то нелепейшие диалоги между Станиславским и Немировичем, причем для каждого из них был установленный штамп интонаций. К сожалению, это непередаваемо. Изобретались и им, и Качаловым, не отставали и другие, постоянно все новые разговоры и анекдоты, причем Немирович прозывался Колодкин (от какого-то магазина Немирова-Колодкина) — и это за ним так и удержалось в театре, — а Станиславский был «Старик».
О Немировиче создавалась легенда какого-то невероятного неудачника, «22 несчастья», вроде Епиходова: то он будто бы садился в отдельном кабинете ресторана на звонок, и в самое неподходящее время появлялись лакеи, то спотыкался на гладком месте, то зажигалась спичка в его кармане, то его знаменитая борода попадала в щель пюпитра и прочая ерунда. Это балагурство, конечно, нисколько не мешало общему уважению к Владимиру Ивановичу и общей любви к Константину Сергеевичу.
Вращаясь в театре, я имел возможность внимательно присмотреться ко всем дефектам в постановках, и причины многих грехов мне становились уже ясными. Критический глаз был действительно нужен, и по правде говоря, и мне, и позже Александру Бенуа удалось внести в МХТ нечто от наших знаний[747]. Между прочим, по просьбе театра я впоследствии поправил «Горе от ума»[748].
Сам принцип «правды на сцене» не во всем уже удовлетворял театр. И каким ненужным уже казался такой «реализм», когда во «Власти тьмы», чтобы изобразить на сцене грязную дорогу, делались документальные гипсовые слепки с замерзшей колеи в подмосковном селе Ивановке… Перестал удовлетворять и тот «историзм», когда он простодушно сводился к показу на сцене подлинных старинных вещей.
Самое очаровательное время бывало для меня в театре перед самой постановкой, в конце моей работы.
В театре за мной, как тень, все время бегал артист Н. Г. Александров[749], нарочно ко мне приставленный, чтобы мне напоминать, что надо еще сделать, и я очень полюбил милейшего этого человека с его толстым носом, мигающими глазками и московскими словечками. Постоянно в коридорах я позади себя слышал его торопливую басистую скороговорку: «Красавец, красавец, остановитесь». (Такие зовы слышались по ночам на московских улицах.) «А как насчет того и того?»
В один из приездов моих в Москву для разговоров о новой постановке я снова попал на очередной капустник 1911 г., который как раз был одним из самых веселых и удачных. Балиеву на репетиции пришла идея поставить «уголок Вильны», воспользовавшись тем, что я, Качалов и Бравич были виленцами, литовцем был поэт Балтрушайтис[750] (близкий друг театра) и за такового мог сойти и Суллержицкий. Меня за ночь заставили экспромтом написать декорацию, и я изобразил красный облупленный старый виленский дом, деревянные ворота с фонарем и разные вывески, и в том числе неизбежную «повивальную бабку», которых почему-то было много в Вильне. То, что мы будем играть, была тайна Балиева, но перед самым спектаклем появились гимназические фуражки, блузы, пояса и шинели, и нас пятерых в них облачили. Так как все это было не по мерке, то получилось очень забавно. Едва мы уселись (гимназисты на большой перемене), как оказались перед хохочущим залом — была, как водится, «вся Москва», — и пока Балиев нас рекомендовал публике, началась сама собой commedia dell’ arte. Занавес открывался несколько раз под веселые аплодисменты.
Среди увеселений этого капустника был «музей восковых фигур» — загадочные ящики, в которых за занавесками обнаруживались терпеливо стоящие в покорных позах «живые» Станиславский, Немирович и другие столпы театра, был «исторический музей МХТ», где под стеклом фигурировали «волос из бороды Владимира Ивановича» и другие «редкости», и интриговавшая будочка «Москва в натуральную величину», куда входили за особую плату и где в окно можно было полюбоваться на подлинный Камергерский переулок[751] с фонарями, извозчиками и прохожими.
Репетиции Тургеневского спектакля начались лишь в конце 1911 г., и спектакль состоялся 5 марта следующего года. Репетиций было гораздо меньше, чем для «Месяца в деревне»[752], и вся постановка создавалась легче.
Для «Где тонко…» пришлось много потрудиться над освещением сцены, и монтер Художественного театра П. Н. Андреев сумел так залить ее светом, что уже на генеральной репетиции все ахнули. Всех поражало «настоящее солнце».
Премьера была новым для меня праздником, аплодировали самой декорации «Где тонко…», и это стало таким обычаем, что потом нарочно артистов сразу не выпускали на сцену, чтобы дать публике успокоиться! Декорация могла нравиться и этим солнцем, и своей легкостью, и прозрачностью, которую создавали и кисея на окнах, и хрустальная люстра, и жирандоли, и едва намеченный пейзаж с тоненькими березками и голубыми просветами белого облачного неба, который был виден сквозь пять высоких окон. Играли этот очаровательный и изящный пустячок Тургенева все с необыкновенной естественностью, мягкостью и молодостью. Особенно Качалов и Гзовская.
Для Тургеневского спектакля я с не меньшей любовью сделал декорации мрачного зала в «Нахлебнике» и комнатку «Провинциалки».
Станиславскому в «Провинциалке» я дал грим старого волокиты 60-х годов с зачесанными вперед височками и с пышными баками, но почему-то после первых спектаклей он вдруг придумал себе длинные висячие бакенбарды, от которых физиономия получилась постная и унылая, и даже было жаль этого старого франта, когда он рушился на колени перед лукавой провинциалкой.
Мы с Бенуа, который тогда только что появился в Москве, старались его переубедить, но он стоял на своем и так и не переделал этого грима. Я не подозревал, что в этой его неудаче он затаил обиду на художника, и впоследствии это сказалось[753].
В мае того же 1912 г. спектакль во всей своей свежести был показан в Петербурге и имел там, пожалуй, даже больший успех, чем в Москве[754].
«Николай Ставрогин»

В зимний сезон 1912/1913 г. была создана в Художественном театре другим художником «Мира искусства», Н. К. Рерихом, огромная постановка «Пер Гюнта» Ибсена. Вряд ли кто смог бы из русских художников передать так, как Рерих, с его сильным и довольно мрачным искусством, поэзию Ибсена.
Той же зимой, в начале 1913 г., впервые вошел в работу театра и третий по счету художник «Мира искусства», А. Н. Бенуа, до этого года всего себя отдававший дягилевским балетам в Париже.
Им были не только сделаны декорации и костюмы к «Браку поневоле» и «Мнимому больному» Мольера, но Бенуа принял большое участие и в режиссуре этих двух пьес — как и при дальнейших своих постановках. Его работа, особенно в «Мнимом больном», придала спектаклю необыкновенную театральность, и Художественный театр несомненно под его влиянием освободился тут от чрезмерной внешней сдержанности. Своим необычайно живым темпераментом Бенуа сумел по-новому расшевелить актеров, и был создан отличный стиль в их буффонаде. Эпоха Людовика XIV, в знании и в чувстве которой он не имел соперников, была представлена в театре полной жизни и блеска, и в пышнейшей и дурацкой церемонии, которою кончался «Больной», с докторами, их шутовскими атрибутами и балдахинами, развернулось забавнейшее, совершенно балетное зрелище. Наряду с этим полным вкуса и стиля спектаклем, старые постановки в театре исторических пьес казались бедными и провинциальными. Станиславский в роли Аргана создал новый, неожиданный тип и показал, может быть, самое настоящее свое призвание — комического актера.
В том же сезоне Бенуа сделал свою вторую, столь же стильную и остроумную постановку — «Трактирщицу» Гольдони, где опять же пленял своим тонким комизмом Станиславский в роли помпезного Кавалера ди Рипафратта, а в 1915 г. — Пушкинский спектакль из «Каменного гостя», «Пира во время чумы» и «Моцарта и Сальери».
В 1914 г. сделал в МХТ постановку и четвертый петербуржец, Б. М. Кустодиев, — «Смерть Пазухина», драму Щедрина, насыщенную купеческим бытом, который Кустодиевым был показан на сцене весьма красочно и «вкусно». В следующей, мало интересной для художника пьесе, «Осенних скрипках», Кустодиев вышел с честью из положения, введя в декорации свои любимые краски, особенно в поэтическом осеннем пейзаже городского провинциального сада.
За эти же годы у меня была моя третья постановка в МХТ — «Николай Ставрогин» по роману «Бесы» Достоевского, на которой я остановлюсь подробнее. Предложена она была внезапно.
В 1913 г. было решено поставить «Коварство и любовь» Шиллера, и, хотя я приготовил все эскизы и ездил на лето специально в Мюнхен и Штуттгарт, чтобы собрать исторические материалы, постановка эта, к моему огорчению, неожиданно отпала (из-за болезни Германовой[755], которая должна была играть леди Мильфорд). Роли же были все уже распределены, и можно было [себе] представить, как бы была сыграна пьеса с Качаловым — Фердинандом, Станиславским — Президентом и Москвиным — Вурмом.
Но я полностью был утешен новой работой, которая меня увлекла чрезвычайно и была одной из самых незабываемых для меня в МХТ.
Мир Достоевского с юности меня волновал, и теперь я погрузился в него всецело. «Бесы» были приспособлены для сцены Немировичем, который гордился, что ни одного слова не приписал — все были слова Достоевского, за исключением одной незначительной фразы, для связи. Немирович был опытный драматург и опыт свой тут применил так же блестяще, как и в «Братьях Карамазовых». Использована была лишь часть огромного романа[756], и был исключен целый ряд действующих в нем лиц.
С Немировичем работалось очень дружно. Мы подолгу запирались в его кабинете в театре, и эту комнату (сплошь увешанную фотографиями театральных людей) он мне часто предоставлял в полное распоряжение — другого помещения не было, — и я мог там сосредоточиваться. У нас не случалось не только никаких разногласий, но я удивлялся, как мы одинаково воспринимали Достоевского и как ясно вставали общие задачи. Я очень дорожил всем, что подсказывали мне его умные и тонкие режиссерские соображения, но я вовсе не был стеснен в моих проектах, и все им весьма охотно принималось.
Самый дух и темы пьесы были совершенно другие, чем в предыдущих моих постановках: вместо лирики была острейшая драматичность, которая по-иному и «подстегивала» меня. Тут я шел тем же путем, как [и] в работе со Станиславским, но совсем в других настроениях. В противоположность симметрии, спокойным краскам и линиям — тому, что подсказывали благодушные тургеневские пьесы, — динамика «Николая Ставрогина» и вся кипучая атмосфера «Бесов» требовали абсолютно другого.
В этой постановке я впервые как бы нашел себя — предчувствия были давно и в моих ранних мечтах о Шекспире — и хотя лирические настроения остались мне близкими, и в них я и впоследствии «впадал» в театре, — но именно с этих пор то, что исходило от драмы, трагедии и романтических пьес, особенно меня поднимало и возбуждало творчески.
Спектакль ставился в необычайном для театра темпе работы, и, хотя в общем было 107 репетиций, «Николай Ставрогин» был готов к концу октября, т. е. пьеса готовилась меньше двух месяцев — срок небывалый.
Это был общий подъем, и для меня работа была одним из первых случаев того художественного «ража», который впоследствии повторялся, когда я сам недоумевал, откуда бралась энергия и как я успевал сделать так много за короткое время.
Свести декорации к простым фонам (как было в «Братьях Карамазовых») в «Бесах» казалось бедным, и моя задача заключалась в наибольшей выразительности и в то же время лаконичности декораций — их было одиннадцать, — и требовалась легкость их конструкций и перемен.
В этой моей задаче была попытка выразить то, о чем лишь в скрытых намеках говорится в романе, и, как Немирович ограничился лишь словами Достоевского, я старался выразить самое острое, что чудилось в его неуловимом стиле и его скупых описаниях. Задача была как бы в «преодолении» ненужного тут натурализма, и я, насколько мог тогда смело, взялся за это.
Может быть, наиболее удачными оказались длинная стена у паперти с рядом вдоль нее сидящих черных фигур нищих, мост, где все было сведено к силуэту перил и фонаря, серая комната с мебелью в чехлах в «Скворешниках», где в амбразуре окна, освещенного заревом, жалась фигурка Лизы в зеленом бальном платье, закутанная в красную шаль, и силуэт голых деревьев в сцене ее бегства.
Были и неудачи. В сцене пожара и убийства Лизы (позже выпущенной) мы долго и напрасно бились над изображением дождя и дыма, но «реализм» тут провалился. Полунин, старик-бутафор, придумал для дождя серебряные веревки, накрученные на вал, но они перепутались, вал визжал, и чудак был в отчаянии. Когда же сооруженный из войлока лохматый «дым» пополз кверху, это всех так рассмешило, что поскорее его убрали, к конфузу изобретателя.
В маленькой комнате Шатова мы долго добивались нужного освещения. Я предлагал простую свечу, но в театре ужасно боялись пожара, и она была заменена электрической лампой, скрытой за грудой книг, причем, как я ни спорил, давали слишком сильный свет. Чтобы меня успокоить, его притушили на генеральной репетиции, а потом пускали вовсю. Немирович признался, что меня надо было «надуть» (вопрос освещения почти всегда неизбежный камень преткновения с режиссером!).
В костюмах «Бесов» я придерживался конца 60-х годов — времени написания романа, и особенно меня увлекла задача ансамбля пестрых нарядов на балу у губернатора. К сожалению, эта сцена, поставленная очень по Достоевскому, впоследствии была тоже отменена. Как всегда, насколько позволяло время, я присутствовал на репетициях, образы героев Достоевского создавались на моих глазах, и я помогал артистам в их внешнем облике.
Лучшего Ставрогина, чем был Качалов, нельзя было представить. Его красивая, благородная осанка и нечто «леденящее», что было в самой натуре артиста, — все подходило для внешности «великого князя», каким я хотел его сделать. Лиза — Коренева, которая так поразительно по Достоевскому совпадала в «Бр[атьях] Карамазовых» с типом другой Lise — хрупкой, капризной полуженщины, полуребенка, тут развернула окончательно свой исключительный драматический талант. Была замечательна Бутова. Эта монахиня в жизни, с ее строгим лицом и орлиным профилем, на сцене оказалась властной и сильной женщиной и настоящей «дамой», и был незабываем Берсенев — Петр Верховенский, у которого была и вертлявость «мелкого беса», и отлично сделанные подлость и подхалимство, — он беспрестанно грыз ногти, что было очень удачно найдено.
В спектакле действительно веяло духом Достоевского. В необыкновенно остро поставленной Лужским, помогавшим Немировичу, истерической сцене бала с «кадрилью литературы» выступил впервые (в маленькой роли нигилиста) будущий чудесный артист Мих[аил] Чехов[757] и бесновались совсем юные тогда Бирман, Дурасова, Соловьева, Успенская, Булгаков, Жилинский[758], Колин, Смышляев и многие другие — целый ряд прекрасных артистов.
И опять же, когда все кончилось, после всего подъема, я должен был найти исход волнению, в котором жил, и сделал много «послесловий» к «Николаю Ставрогину»[759]. В «Бесах» был вообще перелом на моем пути художника.
«Село Степанчиково»

После переделки мной старой постановки «Горя от ума»[760] в 1914 г. (я с большим удовольствием исправил все неточности стиля и сделал много новых костюмов) были еще три мои последние работы в МХТ перед революцией: «Будет радость» Мережковского, «Село Степанчиково» Достоевского и «Роза и крест» Блока.
В «Будет радость», довольно нудной пьесе Мережковского, которую ставил Немирович, был лишь повод выразить некое романтическое настроение в декорации ночной залы, имела успех радуга и дождь сквозь солнце (неплохие световые эффекты) в сцене сада, и я, помню, утешил Вл[адимира] Ив[ановича], дав намек осени в пустых цветочных горшках, сложенных возле веранды. Тут можно было лишь показать «очищенный» реализм[761].
«Село Степанчиково» в 1916 г. создавалось в крайне тяжелой атмосфере. Актеры говорили, что ни одна пьеса в театре еще не ставилась так трудно и туго Станиславским, и у меня тоже ни одна работа не была такой мучительной. Прежней идиллии, спокойствия, сосредоточенности не было и в помине. На театре, особенно на Станиславском, сказывались угнетающие настроения войны, все устали, сам он был в периоде разочарований (не в своей системе — он ей оставался верен, хотя и запутывался, а в актерах), был нервен и мрачен.
У меня самого дело шло трудно, реализм меня связывал, и я никак не мог найти нужного подхода к этой сатире Достоевского, и, хотя Станиславский после тягостных поисков эскизы одобрял, моя самокритика меня мучила.
На бесконечных репетициях разыгрывались тяжелые сцены. Артисты часто не понимали, чего хочет от них Станиславский, были запуганы, терялись, и я видел слезы даже у почтенных артистов, как Книппер, Лилина и Грибунин. Он был придирчив, жесток, говорил подчас весьма обидные вещи и сам терзался и мудрил над своей ролью, вообразив, что она у него не выходит (на деле же в этой пьесе он был идеальным «полковником» Достоевского, какого только можно было представить).
Во время работы выплыло и то, чего никак нельзя было ожидать после стольких лет сотрудничества со Станиславским, — его внезапная «ревность» к художнику.
О пресловутом «засилье» художников уже давно говорились кругом разные недоброжелательные вещи. Действовало и это, и, возможно, что играли роль и наши художественные затеи, особенно у Бенуа и Кустодиева. Последнему, например, не могли в театре простить одну его «выходку»: на фоне декорации нарисованную вдали лошадь, которую он ни за что не хотел убрать, уверяя, что это реализм — лошадь-де стоит неподвижно часами.
Бенуа часто тоже бывал настойчив, даже бывали крупные споры, и на иное Станиславский соглашался, вероятно, скрепя сердце, из уважения к авторитету Бенуа.
Тут и произошел крайне неприятный случай.
Еще в начале репетиций «Села Степанчикова» Станиславский, собрав всех участвующих, в их присутствии разбирая мои эскизы, сказал мне: «Ваши рисунки хороши, но они связывают актера. Я не могу забыть, как в „Провинциалке“ Вы мне нарисовали грим. Я ему поверил и сделал, но не мог в нем играть — он не подходил к типу, который я представил, и потому я его сам изменил. Вы можете дать тут такой галстух, которого не „переиграть“ актеру. Покажите нам разные образцы того, как одеваться и гримироваться по эпохе, а мы сами выберем».
Я был страшно поражен и тут же при всех сказал приблизительно следующее: «Дорогой К[онстантин] С[ергеевич], я не ожидал после всей моей работы с Вами этого недоверия. Я никогда не фокусничал и не навязывал пустых капризов. При таком отношении к художнику мне нечего делать, и я отказываюсь работать»[762] — и ушел.
Я видел, как все были расстроены и сочувствовали мне, я же был совершенно подавлен. Потом все наладилось. Было дружеское объяснение с К[онстантином] С[ергеевичем] и объятия, но трещина залечилась лишь постепенно. Разумеется, все это не могло не отразиться на моей работе.
Несмотря на все страдания и нервность, спектакль вышел удачен, многие же находили его замечательным[763].
Сам я не был удовлетворен своей частью, хотя меня многие уверяли, что я к себе несправедлив.
«Роза и крест»

В том же 1916 г. начались работы по постановке «Розы и креста» Александра Блока.
Вначале для декораций был приглашен московский скульптор Андреев (автор памятника Гоголю), и он вместе с В. В. Лужским проектировал общую архитектурную конструкцию. Она была хотя и остроумна, но очень сложна и громоздка, и ее оказалось невозможным осуществить.
Пьесу ставил Немирович, и, когда я был привлечен для нее, мы с ним, как было в «Бесах» и в «Будет радость», вошли в очень тесное и ладное общение.
Моя сценическая декоративная задача была очень нелегкой ввиду необходимости быстрых и незаметных переходов от одних сцен к другим, хотя в этом технически и сходная с «Бесами», но здесь было сцен еще больше (13) и гораздо меньше антрактов между ними. Мы решили использовать давно не применявшуюся в новых постановках вертящуюся сцену, которая была отлично оборудована и на которой можно было разместить постройки всех сцен с системой отдельных занавесей, и теоретически все казалось найденным.
Но пьеса в театре выходила какой-то мертворожденной. «Роза и крест» ставилась чрезвычайно медленно — почти два года…
Артисты постепенно «увядали», многие роли переходили от одних к другим. Не выходило и с музыкой, которая должна была сопровождать многие сцены. Ильи Саца, написавшего замечательные музыкальные иллюстрации ко многим пьесам — «Синей птице», «Miserere», «У жизни в лапах», уже не было в живых. Музыку пробовали писать многие, обращались и к С. В. Рахманинову[764], но почему-то ни на чем не могли остановиться…
Блок, с которым я видался неоднократно в Петербурге, дал мне много ценных материалов, но я, хотя и довольно хорошо и до этого знал эпоху, работу свою засушил, слишком педантично собирая материалы (в Румянцевской библиотеке нашлись еще новые), и Блок был прав, написав в своем дневнике, впоследствии изданном, что «эскизы Д. какие-то деревянные»[765].
Как ни странно, Блок настаивал на реальности постановки (он говорил: «от Алисы должно нести луком»), несмотря на то что в пьесе столько истинной поэзии и отдельные образы, как Гаэтан, — почти видения. Все это меня смущало, и по-настоящему мы не могли договориться.
Декорации я усердно писал в Москве и следил за очень тщательно, как всегда, исполнявшимися костюмами. Но при начавшейся разрухе было тяжело ездить в невероятную даль — новая декорационная мастерская театра помещалась на окраине города, где-то у Покровской заставы, — и я физически изнемогал.
Когда все почти было готово и уже была назначена генеральная репетиция с декорациями и костюмами, Станиславский, как обычно делалось в постановках Немировича, «вошел в пьесу». Пошли слухи о его неблагоприятных отзывах ко всему подходу, и Немировича и моему, и я, будучи в полном отчаянии, смалодушествовал и перед самой репетицией уехал в Петербург… Это было накануне Октябрьской революции.
Потом я узнал, что Станиславский решил все сделать по-новому. Не только для меня, но и для Немировича, и для Блока, и для всех артистов, которые истомились в ожидании спектакля, это был большой удар. Защищать же свою работу я по совести все-таки не мог.
Переделка «Розы и креста» была поручена Станиславским моему же помощнику по писанию декораций — молодому художнику Гремиславскому, который по его указаниям перевел все на драпировки. Говорили и об этой очередной неудаче…
Пьеса так и не была поставлена. Кажется, в 1920 г. ее передали в театр Незлобина, этим материально как-то был удовлетворен Блок, но и в этом театре ничего не получилось[766].
Уже после смерти А. А. Блока был проект кинематографического режиссера Волкова поставить «Розу и крест» в кинематографе. У меня начались с ним разговоры, но и это не осуществилось. Собирались в Москве издать книгу о «Розе и кресте», для которой я сделал некоторые рисунки, но я не уверен, была ли она напечатана[767].
На неудаче с «Розой и крестом» окончилась моя работа в Художественном театре.
После революции я много работал в петербургских театрах; между прочим, сделал постановку «Разбойников» Шиллера в Большом Драматическом театре, объединившись с Болеславским и Сушкевичем[768], артистами МХТ, режиссировавшими пьесу.
Будучи в Москве в 1921 г., я с завистью проводил Станиславского и театр, уезжавших на гастроли в Европу[769], и жил в самом здании театра. При тогдашних ужасающих жилищных условиях негде было остановиться, и мне устроили в пустовавшем театре «угол» — в уборной отсутствовавшего Качалова, где, впрочем, было трудно спать от страшного количества появившихся театральных крыс, с которыми не мог бы сладить даже бравый полковник фон Фессинг, если бы был жив…
В 1924 г. я уехал за границу, но все же нить с МХТ не порывалась. Через два года в Берлине я встретился с Немировичем, и он мне предложил сделать эскизы к «Плодам просвещения». Хотя пьеса как-то не вдохновляла, мы с ним начали обдумывать эту постановку, и я нарисовал один проект, но почему-то все это замерло, и я уехал в Париж.
Но были зовы и в последующие годы, и одно письмо от Немировича из Москвы[770], очень дружеское и подробное, о том, что именно они хотели бы ставить со мной, с тронувшими меня его словами, что в театре меня не перестают ценить и помнят, но по разным причинам я отказался…
В 1929 г. было 25-летие смерти Антона Павловича Чехова, и в Баденвейлер, где он умер в 1904 г., приехали многие из М[осковского] Х[удожественного] театра. Приехал и я, чтобы повидать старых друзей после долгой разлуки, и был счастлив снова обнять Станиславского, увидеть его жену и детей и О. Л. Книппер (другие тогда уже уехали) и наговориться с ними.
Он тогда очень постарел, его черные брови поседели, и это очень меняло его. Я сделал тогда с большой любовью его карандашный портрет[771]. Нарисовал и белую гостиницу, где скончался А. П. Чехов, и вид, на который он смотрел из своего окна перед смертью. Эти рисунки я послал в подарок театру[772].
Года за два до смерти Константина Сергеевича я получил от него из Франции длинное необыкновенно сердечное письмо[773]. Он писал: «Я долго не мог начать писать. Писал „на Вы“, и у меня не выходило. Я не помню, пили ли мы на брудершафт, но только „на ты“ и могу».
В 1937 г. в Париже я видел три спектакля МХТ: «Враги», «Любовь Яровая» и «Анна Каренина», встретился с Немировичем, с Васей Качаловым, с которым так сблизился за последние годы в Москве, с Книппер и другими […] Владимира Ивановича я нашел совсем таким же по внешности, как и раньше, он только совершенно весь побелел и перестал уже носить свой цилиндр. Последние слова, которые я от него услышал, были: «А когда же Вы к нам?..» […]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК