Тайна и общественное мнение
Тайна и общественное мнение
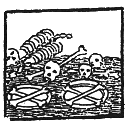 Прежняя государственная власть держалась на тайне. Действительный тайный советник так назывался именно потому, что был допущен к святая святых — к принятию решений (русская административная лексика следовала немецкому образцу). Управление страной основывалось не на законе, а на системе правил и на воле государя, столь же неисповедимой и непреложной, как воля Господня. Любая авторитарная система предполагает анонимность и секретность. Французская теория государства основывалась на том, что власть взяла на себя роль Провидения, и потому отдельному человеку думать и решать не только бесполезно, но и вредно.
Прежняя государственная власть держалась на тайне. Действительный тайный советник так назывался именно потому, что был допущен к святая святых — к принятию решений (русская административная лексика следовала немецкому образцу). Управление страной основывалось не на законе, а на системе правил и на воле государя, столь же неисповедимой и непреложной, как воля Господня. Любая авторитарная система предполагает анонимность и секретность. Французская теория государства основывалась на том, что власть взяла на себя роль Провидения, и потому отдельному человеку думать и решать не только бесполезно, но и вредно.
В XVIII в. первым делом рушится этикет: если придворные времен Людовика XIV напоминали безмолвные автоматы, то при Людовике XVI они позволяли себе говорить в присутствии короля. Тиранство Павла I, его борьба с «республиканскими» нарядами, с круглыми шляпами — это борьба за послушание, ибо он прекрасно понимал, что разрушение государства начинается с попрания этикета.
В эпоху Просвещения монарх постепенно теряет свой сакральный ореол. Французские короли исцеляли наложением рук, подобные церемонии предусматривал этикет — Людовик XVI справлялся с этим из рук вон плохо. Позднее Наполеон вернет себе эту магическую прерогативу, и художники будут рисовать Бонапарта при посещении чумного госпиталя. Король символизировал мощь нации, символически обеспечивал плодородие страны, но если любвеобильный Людовик XV Возлюбленный превратил Францию в свой гарем, то бессилие Людовика XVI обсуждала вся Европа. С королем произошло самое страшное: он стал посмешищем, превратился в наиболее презираемую фигуру — комического рогоносца. Казнив Людовика XVI, Революция спасла его репутацию, увенчав мученическим венцом. Памфлетисты изощрялись, описывая распутство Марии-Антуанетты, давая ей в любовники королевских братьев, придворных. Скандал с «ожерельем королевы» свидетельствовал: кардинал де Роган, духовный пастырь, возмечтал купить за бриллианты любовь государыни — значит, это возможно.
Сакральная сила переходила к другим. Дар исцелять — к чудотворцам. Сен-Жермен, Казанова, Калиостро или Месмер — лишь самые известные целители; рассказы и слухи о врачевателях постоянно возникают в газетах, литературных корреспонденциях и письмах, в частности Гримма. Екатерина II весьма проницательно описала их в комедии «Шаман сибирский» (1786).

Второй атрибут, тайна, переходит к великим авантюристам и великим мистикам (дон Мартинес Паскуалис, Сен-Мартен). К ним обращаются как к апостолам истинной веры, просят раскрыть высшую мудрость, указать верный путь. Во Франции масонство приобретает массовый характер во второй половине века, некоторые списки лож напоминают списки членов профсоюза: так, в 1787 г. двадцатилетние инженеры департамента мостов и дорог поголовно вступают в парижскую ложу Урания[159]. Большинство руководителей первой российской страховой компании посещают петербургские ложи Урания и Скромность (1775–1780), причем все они иностранцы, немцы и французы[160]. Но уже с 1760-х годов, особенно на юге Франции, часть масонов испытывает сильное воздействие мистиков, влияние Учителя нарушает иерархическую масонскую структуру, противоречит власти Великой ложи Франции. В 1785 г., незадолго до скандала с «ожерельем королевы», конгресс филалетов, претендовавший на объединение не только французских, но и немецких масонов во имя поиска мистического знания, посылал своих депутатов к Калиостро, обращался в основанную им в Лионе материнскую ложу египетского ритуала, но Великий Копт сперва согласился посвятить избранных, а потом отказал, видимо желая подчинить себе все масонство[161].
В эпоху Просвещения философы приравниваются к королям (наиболее отчетливо это видно на примере Вольтера), поэты начинают восприниматься как пророки, культ великих людей подменяет собой религию[162]. Так, в 1787 г. граф Грабянко основал в Авиньоне мистическую ложу «Божьего народа», провозгласил себя царем Нового Израиля и возвел масонский храм. Маркиза де Виллет ежедневно воскуряла фимиам перед бюстом Вольтера. После смерти философа супруги де Виллет превратили его комнату в Фернее в место поминовения, куда поместили его сердце, портреты близких ему людей.
С другой стороны, сами монархи примеряют маску философов. Конечно, Фридрих II не был «гражданином на троне», как писал Вольтер в 1739 г. в посвящении «Генриады», но он вполне последовательно разыгрывал роль философа, поэта и солдата, заменив двор несколькими адъютантами, советниками и писателями, роскошь — спартанским обиходом, этикет — армейской дисциплиной. Разумеется, его простота и доступность была сродни любезности и обходительности Екатерины II, такой же формой жесткого авторитарного правления. Подобный стиль подходил лишь этим великим государям и великим психологам. Они обретали прозвание бессмертных и божественных во многом благодаря своим человеческим слабостям, тому, что действовали наперекор рутинным требованиям, сопряженным с их саном (так ранее поступал Петр I). В противном случае век Просвещения, по известной формуле, ограничивал самодержавную власть удавкой и гильотиной.
Но, разумеется, не только ими. Создаваемое философами и разносимое щеголями общественное мнение все активнее осознает себя как реальная новая сила, противостоящая государственной власти, основанной на тайне. Обсуждение начинается с литературы, театра, живописи, а кончается политикой. Критики создают и ниспровергают авторитеты; возникает та самая информационная среда, где циркулируют оценки и идеи, от кафе, салона и театра до парламента. Полемика об итальянской и французской комедии, об итальянской и французской опере («война буффонов») делит общество на непримиримые партии. В некоторых случаях, напротив, театр служит для выражения политических симпатий: по свидетельству Казановы, в 1766 г. в Варшаве сторонники и противники России поддерживали двух соперничающих между собой итальянских актрис.
Под влиянием буржуазных норм поведения тайной становится семейная жизнь, а публичный человек, щеголь и философ, оказываются у всех на виду. Обсуждать — значит влиять и отчасти контролировать. Подобно художественным произведениям, законы и указы проверяются на разумность, соотносятся с традицией, с естественным правом, а не только с волей государя[163].
Глас народа — глас Божий, и потому общественное мнение выше монарха. Само это понятие возникает в середине XVIII в., во многом под влиянием Руссо. Оно описывается как поток (как позднее будет рисоваться Революция), как всепобеждающая сила («и вот на чем вертится мир»), все тайное делающая явным. Но общественное мнение, утверждают просветители, в частности Кондорсе, надо формировать и воспитывать, им нужно управлять, оно должно следовать мнению философов, а не толпы. Публика — это разумные и образованные люди, а не темная переменчивая толпа[164]. И мы опять возвращаемся к идее союза элит. «Одобрение д’Аламбера или Дидро мы ставили выше милости принца», — писал граф де Сегюр о своем поколении[165]. В свою очередь, государство стремилось управлять общественным мнением, перекупать литераторов, ставить их себе на службу (аббат Сюар, Морелле, Бриссо, Мирабо и др.). Н. Новиков, недолюбливавший французских философов, напечатал в «Живописце» перевод из книги Фридриха II «Утренние размышления королевские», где утверждалось, что писатели — «люди нужные для государя, который хочет царствовать самодержавно и притом любить свою славу. Они раздают чести и без них не можно приобресть никакого твердого прославления. И так надлежит их ласкать по необходимости, а награждать по политике […] А чтобы иметь несколько в сем труде легкости, то я содержу при моем дворе некоторое число их блистающих разумов […] Среди наивеличайших моих несчастий никогда не упускал я платить исправно ежегодные награждения ученым людям» (1772, ч. II).

Авантюрист испытывает к королю те же чувства любви-ненавис-ти и соперничества, что и к философу. Основные этапы и логика их отношений почти полностью совпадают: поиск идеала, мэтра, Отца — письмо, переписка — предложение услуг взамен на «жалованную грамоту», дарующую место в государстве или Республике Словесности — личная встреча — отказ, разрыв — нападки на кумира. Письмо авантюриста монарху можно рассматривать как вполне устойчивую литературную форму[166]. Мы видели, что в письмах к философам и в критике их искатели приключений повторяются. Здесь происходит то же самое, тем более что авантюристы, как правило, пишут монархам то, что, по их мнению, те хотят услышать, и получается это добродетельно скучно. Как утверждал принц де Линь, Казанова — истинный философ, но только не в своих философских сочинениях. Открывает письмо лесть императрице или королю, затем следуют похвалы себе и изложение проекта. Если их несколько, то начинают с простого, чтобы потом предложить нечто глобальное. В подтверждение литературных талантов преподносится книга, врачебных — прилагаются афишки. В заключение просятся на службу или намекают на временные трудности.
Весьма характерно с этой точки зрения письмо, которое 1 января 1760 г. отправил из Амстердама императрице Елизавете Петровне уже знакомый нам «швейцарский дворянин, по крови москвитянин». Написано оно по-французски с грубыми ошибками, но непохоже, чтобы автор его был русским. «Золтыкоф Альтенклинген» предложил услуги некоего опытного мыловара, который мог бы открыть фабрики в России (аналогичный проект Казанова представил в Польше в 1765 или 1766 г.[167]), а заодно самолично взялся исцелить все болезни с помощью тайного знания и алхимии (императрица часто хворала, жить ей оставалось два года). В заключение он обещал открыть секрет, как увеличить доходы государства на десять миллионов, не взяв с подданных ни гроша. Печатные афишки на голландском расхваливали чудодейственное искусство лекаря «Соллхофа», практиковавшего год в Роттердаме, его магические «арканы», добытые упорными штудиями и далекими путешествиями. Трудно сказать, что за проект хотел подать «Золтыкоф»: если это не лотерея, на манер тех, что организовывал Казанова (что представляется наиболее вероятным), то, верно, изготовление золота, которым промышляли и венецианец, и граф Сен-Жермен. Оба великих авантюриста и соперника именно в это время приехали в Голландию с тайными миссиями; напомним, что Сен-Жермен также называл себя Салтыковым, также лечил от всех болезней. Стиль его писем и прожектов 1759–1760 гг., адресованных датскому королю[168] и маркизе де Помпадур, весьма напоминает послание к Елизавете Петровне, хотя почерк отличен: жанр авантюрного поведения диктует эпистолярную форму. Но императрица письмо не прочла: хотя послание перевели для нее на русский язык, министры в конце концов решили, что оно не заслуживает Высочайшего внимания[169].
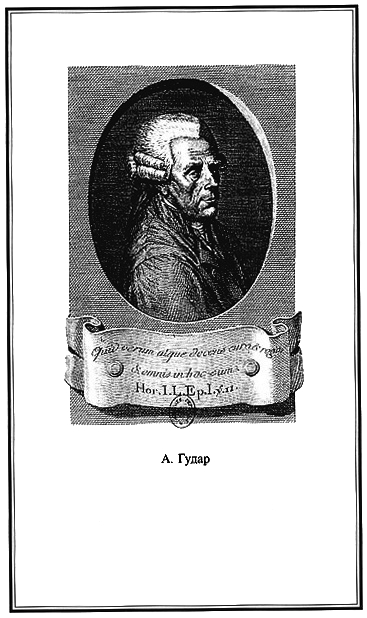
Аналогично действовал С. Заннович. В отличие от Вольтера, Екатерина II не ответила ни на льстивые письма, которые он ей послал из Варшавы и Дрездена в 1775 г., прося вспомоществования и надеясь получить приглашение приехать[170], ни на сочинения в прозе и стихах, где он ее восхвалял («Ода» была опубликована в его «Турецких письмах», 1777). В 1783 г., когда его братья Премислав-Марко и Ганнибал Занновичи были арестованы в России как фальшивомонетчики, Степан Заннович опубликовал трактат «Коран наследных принцев», где назвал императрицу «жестокой и непристойной Семирамидой» и обвинил в убийстве мужа (то есть себя самого, ибо наш герой выдавал себя за черногорца Степана Малого, самозваного Петра III)[171].
Анж Гудар, напротив, начал с нападок, а кончил хвалой, но примерно с тем же результатом. Его «Мемуары для истории Петра III» (1763) так разгневали императрицу, что она повелела канцлеру графу Воронцову приказать послам отыскать автора, добиться его наказания, конфисковать тираж и не допустить ввоза книги в Россию. Все переменилось, когда в июле 1771 г. граф Петр Александрович Бутурлин получил Сару Гудар за 500 фунтов стерлингов, ездил с ней по Италии, представил ее в Ливорно графу Алексею Орлову, командовавшему русским флотом во время войны с турками. Орлов стал любовником Сары либо в том же 1771 г., либо летом 1773 г.[172] Анж Гудар написал «Похвальное слово Екатерине II» (1771) и «Рассуждения о причинах былой слабости Российской империи и ее новой мощи» (1772)[173]. Сочинитель, видимо, подготавливал почву для поездки в Россию, но Орловы вышли из фавора, и план остался неосуществленным. Все же его трактат об установлении всеобщего мира в Европе (1757) был напечатан в России в 1789 г., во время следующей русско-турецкой войны, и, что примечательно, переведен он был непосредственно в военном лагере[174].
Итак, подобно философам, монархи в лучшем случае не замечают или высмеивают авантюриста, в худшем — высылают.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
Общественное устройство
Общественное устройство Как отмечалось выше, китайцы сражались за территории с местными жителями. По мере распространения пришедших племен автохтонное население просто уничтожалось, ассимилировалось с ними или оттеснялось на юг.В конце концов некитайским племенам не
Мнение каббалистов
Мнение каббалистов Мы привели массу мнений о каббале, в том числе мнения ученых. Некоторые из них точно так же, как каббалисты, утверждают, что каббала стоит в основе всех наук. Возникает встречный вопрос: почему каббалисты сами не развивали науки? И действительно,
Общественное место
Общественное место В общественных местах к детям предъявляются особенно строгие требования. Мамы и папы ждут от своих чад проявления безупречных манер, словно это экзамен. И негативная оценка посторонних людей может вызвать у родителей реакцию, не всегда адекватную
Собственное мнение
Собственное мнение Вопрос, высказывать ли собственное мнение в разговоре или придерживаться общего, сложившегося в обществе зависит от множества причин. Основное правило общения за столом во время банкета — отсутствие споров. Также не принято прилюдно спорить со
Мнение Рейна
Мнение Рейна Конечно, это фигуративно сказано: «мнение реки Рейн». Немецкое, попросту, мнение. Кто из нас, женщин, не знаком с прелестями германской моды, с легким и элегантным немецким вкусом, без всякой доли бюргерского тщеславия; с их тонким пониманием цвета, особенно
49. Общественное мнение и социальные стереотипы как результаты массовой коммуникации
49. Общественное мнение и социальные стереотипы как результаты массовой коммуникации Социальный стереотип – это упрощенный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью. Устойчивость стереотипов может быть связана с воспроизведением
6. Еда — дело общественное
6. Еда — дело общественное Вокруг способов добычи пищи, ее готовки и приема формируется большая часть древнейших обрядов и обычаев. Люди, собиравшиеся для еды за «общим огнем», не могли не выработать совместных правил поведения во время приема пищи. Еда вообще стала