Утописты при дворе Екатерины II
Утописты при дворе Екатерины II
 Более других иностранцев Екатерину II интересовали французские философы. Не только потому, что государыня издавна увлекалась их сочинениями. Еще в 1760 г., когда состоявший при Петербургской академии Струбе де Пирмонт в своих «Российских письмах»[340] оспорил Монтескье, доказывая, что Россия страна не деспотическая и что крепостное право — благо для крестьян, Екатерина Алексеевна высмеяла его, делая пометы на полях книги. Философы властвовали над общественным мнением Европы, их поддержка значила не меньше, чем удачно заключенный дипломатический договор. О своей внешнеполитической репутации императрица начинает заботиться сразу после восшествия на престол: завязывается переписка с Вольтером, д’Аламбер получает приглашение стать наставником великого князя, а Дидро — печатать Энциклопедию в России. Вскоре Екатерина II покупает библиотеку Дидро, узнав, что тот не мог собрать достойного приданого для дочери. При этом императрица оставляет книги философу в пожизненное пользование, более того, производит его в личные библиотекари и выплачивает пенсион.
Более других иностранцев Екатерину II интересовали французские философы. Не только потому, что государыня издавна увлекалась их сочинениями. Еще в 1760 г., когда состоявший при Петербургской академии Струбе де Пирмонт в своих «Российских письмах»[340] оспорил Монтескье, доказывая, что Россия страна не деспотическая и что крепостное право — благо для крестьян, Екатерина Алексеевна высмеяла его, делая пометы на полях книги. Философы властвовали над общественным мнением Европы, их поддержка значила не меньше, чем удачно заключенный дипломатический договор. О своей внешнеполитической репутации императрица начинает заботиться сразу после восшествия на престол: завязывается переписка с Вольтером, д’Аламбер получает приглашение стать наставником великого князя, а Дидро — печатать Энциклопедию в России. Вскоре Екатерина II покупает библиотеку Дидро, узнав, что тот не мог собрать достойного приданого для дочери. При этом императрица оставляет книги философу в пожизненное пользование, более того, производит его в личные библиотекари и выплачивает пенсион.
Со своей стороны, философов притягивает страна, открывающая гигантское поле для практического применения их теорий, привлекает возложенная на них миссия: создать образ монархини, поборницы просвещения, которая прислушивается к их советам. Оговоримся, правда, что само понятие просвещенного монарха Дидро было чуждо: по его мнению, подобный правитель может принести России непоправимый вред, ибо приучит подданных доверять государевой воле больше, чем закону.
В век Просвещения существовало два противоположных подхода к России, связанных, с одной стороны, с противоборством философских концепций Вольтера и Руссо, а с другой — со сменой геополитических представлений. Согласно первой точке зрения, Россия расположена на Севере Европы («К нам свет из северной приходит днесь страны», — писал фернейский патриарх в послании к Екатерине II). Это страна дикарей, закаленных в боях, выносливых, неприхотливых, переимчивых и сметливых. Они находятся в начале исторического пути, который приведет их к вершине цивилизации, т. е. к парижской культуре (как бы иронично ни относился к ней Вольтер). Благодаря деятельности Петра I и его духовной преемницы, Екатерины II, Россия уже двинулась по пути европеизации. Судьба Франца Лефорта служит доказательством того, что Россия — земля обетованная, ждущая законодателя и правителя. Необходимо только большое число иноземных наставников, готовых обучить этих взрослых детей (сравнение русских с дикарями и детьми — устойчивый мотив путевых дневников и воспоминаний о России, написанных иностранцами)[341].
Напротив, Жан-Жак Руссо утверждал, что у каждой страны своя специфика; чтобы стать великой державой, Россия должна не копировать европейцев, а искать свою дорогу. Потому в «Общественном договоре» (1762) Руссо категорически отрицал полезность петровских преобразований, опять-таки прибегая к педагогической метафоре. По его мнению, Петр I, насильственно превращая народ в немцев или англичан, вместо того чтобы сделать из них истинных русских, поступил как дурной воспитатель, искусственно ускоряющий процесс обучения: его ученик блистает в детстве, а в зрелые годы остается ничтожеством. Не в цивилизации нуждался народ, а в закалке. Теперь же, предсказывал Руссо, Россия попадет под иго азиатов, татар, которые затем подчинят всю Европу. Как народ должен искать и защищать свою национальную самобытность, философ показал на примере малой страны в «Рассуждениях о правлении в Польше» (1772). В России точку зрения, близкую к Руссо, отстаивали Е. Р. Дашкова, М. М. Щербатов, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков[342].
В отличие от Севера, Восток французы эпохи Просвещения воспринимали как древнюю цивилизацию, имеющую право не походить на них и не слишком склонную к переменам. По мере военного и политического продвижения России на Восток ее специфическая пограничная роль становится все более очевидной. Но отметим, что при этом Руссо занимал твердую антирусскую позицию, а Вольтер поддерживал действия русской армии в Польше, вдохновлял восточную политику Екатерины II. Императрица поощряла фернейского патриарха, а сочинения женевского гражданина запрещала к продаже, видела в них призыв к общеевропейскому походу против России, который мог быть использован французской дипломатией (и, увы, действительно использовался).
Философы и власть стремились к сближению, но едва они переходили от слов к делу, то немедленно наступало взаимное разочарование. Одним, в частности Вольтеру, императрица вовсе не дозволила приехать[343], путешествие других кончилось конфузом. Диалог длился с первых до последних дней царствования, в ход шли все жанры: письма, трактаты, беседы, комедии и мемуары. Екатерина II предлагала собеседнику роль придворного философа. Когда же тот принимал ее и начинал строить воздушные замки, оторвавшись от российской почвы, его изгоняли, освобождая место для следующего. Разумеется, роль мазохистская, как показал Леопольд Захер-Мазох в новелле «Дидро в Петербурге», превратив философа в говорящую обезьяну. Избежать подобной участи мог только такой ловкий царедворец, как Фридрих Мельхиор Гримм, который, по мнению Дидро, столь же искусно обрабатывал людей, как Фальконе — статуи[344].

Обоюдные недоразумения и разочарования происходят от того, что сталкиваются два мифа: всесильной философии Просвещения и убогого философа-утописта. Согласно первому, законы разума универсальны и применимы ко всем странам. Мерсье де ла Ривьер полагал, что ему хватит двух лет, чтобы утвердить в России незыблемые принципы законодательства, приспособив их к местным нравам и обычаям[345]. Чужеземец призван наставлять самодержавного монарха, который воплотит в жизнь его советы. Тем паче, что политическая и экономическая теория физиократов на деле доказала свою эффективность: Мерсье де ла Ривьер, губернатор Мартиники, привел к процветанию остров, разоренный англичанами. Заморский советник, вознесенный наверх, мог рассчитывать на власть и богатство или даже мечтать о создании небольшого государства, где сам он стал бы просвещенным правителем.
Мечта о философском завоевании, даровании народу разумных законов, экономических и политических свобод, столь дорогих для физиократов, предполагала жесткое администрирование сверху. Но Екатерина II, в отличие от Петра I, отнюдь не желала потрясать основы государства и писать законы кнутом. Ее политическое кредо: живи и давай жить другим. А философов она воспринимала такими, как их рисовала мифология Просвещения: люди не от мира сего, непрактичные, увлекающие читателей Европы и не знающие, что делается у них дома, страдающие манией преследования и манией величия, чудаковатые до безумия. Екатерина II предпочитала видеть вокруг себя людей практического склада, а утопистов — в Европе, дабы они прославляли ее царствование из своего прекрасного далека.
Философы, отправлявшиеся просвещать Россию, вызывают насмешки и нападки со всех сторон. Враг энциклопедистов аббат Фрерон в 1774 г. напечатал в своем журнале сатирический портрет «апостолов и миссионеров философии», боготворящих государей, которые платят им пенсионы, кричащих, что французская нация вырождается под ярмом деспотизма и что свобода, науки и процветание нашли убежище на Севере. Он изобразил Дидро, отправившегося в Петербург, как экстравагантного рассеянного чудака, чуждого реальному миру, который будет иностранцем в любой стране. Более того, Фрерон уверял, что это сознательная маска: «К тому же, уязвленный тем, что перед ним никто не трепетал, он пробегал общественные парки, здания, картинные галереи, одетый самым причудливым образом; здесь в халате, там в желтых туфлях, повсюду в ночном колпаке, извещая по приезде в каждый город, что забыл свой парик там, откуда только что прибыл: и все это, дабы придать себе вид значительный и по-философски рассеянный. Со всех сторон вопрошали, что это за необычайный человек, а его служитель Г**** [Гримм] отвечал: Это знаменитый Д**** [Дидро]»[346].
Мифы загоняют обе стороны в ловушку, ибо навязывают стереотипы поведения императрице и философам, определяют горизонт, ожидания собеседников. Скандальный провал в России Мерсье де ла Ривьера, видного физиократа, приехавшего по рекомендации Дидро и князя Д. А. Голицына, подтвердил требования жанра и закрепил традицию.
В середине 1760-х годов, когда массовую иммиграцию сменяют индивидуальные вызовы, Екатерина II активно зазывает иностранных ученых. В апреле. 1765 г. маркиз д’Аржанс из Экс-ан-Прованса посылает императрице свою книгу об историческом прогрессе литературы и человеческого знания[347]. «Ваше правительство, значит, не любит философию; сверх того, я слыхала, что во Франции принято поносить философов, дабы придать себе более весу, — пишет государыня д’Аламберу в 1766 г. — Мы даем ученым спокойно заниматься наукой и никого не сжигаем». И добавляет, что Леонард Эйлер прибыл с сыном в Россию[348]. В марте 1767 г. швейцарский натуралист Альбрехт Галлер подумывает последовать примеру Эйлера и Дидро: продать Екатерине II свою библиотеку из 9 тысяч книг и приехать в Петербург, дабы закончить естественную историю Сибири, начатую Иоганном Георгом Гмелином, и написать новую историю Петра I[349]. В январе 1767 г. Григорий Орлов пишет Руссо и предлагает ему убежище в России; философ отказывается[350]. В феврале 1767 г. Мармонтель присылает императрице философский роман «Велизарий», запрещенный во Франции. В мае 1767 г., во время плавания по Волге, Екатерина II вместе с придворными перелагает роман на русский — и тотчас ставит о том в известность писателя. Сама она выбирает для перевода девятую главу, посвященную взаимоотношениям монарха и народа. Когда в сентябре 1768 г. роман выходит в России, царица отправляет его автору[351]. Мармонтель горячо одобряет ее выбор, в котором видит желание сделать счастливыми двадцать миллионов подданных, объяснить им, что абсолютна только власть законов, что тот, кто хочет править самовластно, — раб и что государь должен быть един со своим народом[352].
В 1767 г. Екатерина II активно работает над окончательной редакцией «Наказа». Она нуждается в людях, которые, во-первых, йог-ли бы прочесть и одобрить текст, а во-вторых, помочь претворить его в жизнь. Первый выбор падает на Чезаре Беккариа, чью книгу «Трактат и преступлениях и наказаниях» (1765) императрица использовала при написании «Наказа» (ее французский перевод опять-таки был запрещен)[353]. Для Екатерины II это лучшая рекомендация, и когда во Франции также запретят перевод «Наказа», она будет этим гордиться, как лучшим доказательством процветания свободы и философии в России. При этом, как показал Ю. М. Лотман, императрица заимствовала у итальянского автора в первую очередь техническое решение юридических проблем, отбросив то, на чем они базировались, — теорию естественного права и общественного договора. Совершенно так же Екатерина II применила для описания самодержавия положения, разработанные Монтескье для монархического образа правления[354]. Итак, через И. П. Елагина государыня приглашает маркиза Беккариа, обещает ему шесть тысяч дукатов и еще четыре тысячи на дорогу, интересуется, знает ли он французский, прочит ему роль личного советника по вопросам, разработанным в его книге, обещает ему консультанта для объяснения местных условий[355]. Беккариа соглашается, колеблется и остается в Италии с молодой женой. Затем императрица просит графа Н. И. Панина пригласить на русскую службу начальника полиции немецкого города Альтона Иоганна Петера Виллебрандта, автора «Краткого описания полиции» (1765)[356]. Исправному исполнению законов Екатерина II придавала не меньшее значение, чем их составлению, тем более, что в ведении управы благочиния находилось общее наблюдение за порядком. По свидетельству графа де Сегюра, она начинала рабочий день с полицейских донесений. По ее просьбе Дидро начал их петербургские беседы с истории парижской полиции. В 1768 г., уже после отъезда Мерсье де ла Ривьера, скульптор Фальконе написал императрице, что ей нужнее профессиональный юрист, а не законодатель, и рекомендовал скромного парижского адвоката де Виллье, сопровождавшего знатного физиократа[357]. Екатерина II взяла адвоката на службу на три года.
Напротив, Мерсье де ла Ривьер заботился о законотворчестве более, чем о проведении его в жизнь, и намеревался побыстрее преобразовать Россию. Недоразумение первое: императрица полагала, что приглашает изгнанника, тайком отправившегося в Россию, тогда как бывший губернатор Мартиники получил в министерстве двухлетний отпуск. Она надеялась увидеть философа-бессребреника, который охотно поступит на службу, а Мерсье де ла Ривьер нашел жалованье слишком скромным и напомнил, что получал во Франции сорок тысяч экю, не считая наградных. Екатерина II ждала советника, который поможет отшлифовать «Наказ», а губернатор ехал управлять страной. Его путешествие из Парижа в Петербург длилось три месяца вместо полутора, и он прибыл только осенью 1767 г., когда императрица уже отправилась в Москву, дабы произнести речь перед Уложенной комиссией и понаблюдать за началом законотворческой работы. Несмотря на задержку, еще в дороге Мерсье де ла Ривьер писал, что в России надо все переделать и заклинал Екатерину II ничего не предпринимать до его прибытия. Он уверял, что за ним следит вся Европа, именовал себя и своих спутников «шестью мэтрами», прибывшими преобразовать страну[358]. Государыня предоставила графу Панину укоротить заносчивого «мэтра», и вскоре ей донесли из столицы, что «де-ла-Ривьер убавил маленько спеси: только он говорун и много о себе думает, а похож он на доктура»[359].
Заносчивое поведение Мерсье де ла Ривьера выглядит смешным и нелепым: как пишет Екатерина II, «автор „Основного порядка вещей“ сбился с панталыку»[360]. Более того, философ кажется опасным: императрица утверждает, что он рассуждает как атеист; позднее в Петербурге будут упрекать в безбожии Дидро. Свободомыслящих людей подозревают в распространении вольнодумства и вольнолюбия. Именно в эту пору Екатерина II утверждала в «Наказе», что цель самодержавного правления — не отнять естественную вольность, но направить к получению наибольшего ото всех добра (гл. II, 13). И далее уточняла, что в государстве, т. е. в собрании людей, в обществе живущих, вольность есть право делать то, что законы дозволяют (гл. 5, 38). Она писала, что «равенство всех граждан состоит в том, чтобы все были подвержены тем же законам» (гл. 5, 34)[361], что следует «избегать случаев приводить людей в неволю» (гл. XI, 253)[362], выступала за свободу торговли, регламентируемой государством[363]. Но, разумеется, императрица была далека от того, чтобы строить экономическую и политическую систему государства на основе свободного предпринимательства, как то проповедовали физиократы, она не решалась отменить крепостное право, основу империи, как предлагал Мерсье де ла Ривьер. Сам философ, далекий от республиканских идей, был сторонником монархического образа правления и выступал за разделение исполнительной и законодательной власти. В. Бильбасов выдвинул даже гипотезу, согласно которой Н. И. Панин, желавший заменить самодержавие аристократической формой правления на манер Швеции, не допустил философа к императрице и представил его в невыгодном свете. Но других чужеземных утопистов также подозревают в распространении опасных идей — и не без оснований: о свободе в России рассуждают д’Эон, Бернарден де Сен-Пьер, Дидро, барон Билиштейн и др.
Граф Сигизмунд фон Редерн (ок. 1715–1789), гофмаршал двора вдовствующей королевы прусской, куратор Берлинской Академии, полагал, что для процветания мощной монархии необходимы собственные колонии. Он совершил немало путешествий, потратил годы на создание в Германии Индийской компании, собрал пайщиков и стал главой торгового дома, но не смог наладить его деятельность из-за жесткой налоговой политики Фридриха II. Он решил попытать счастья во Франции, где Людовик XV предоставил ему подданство, и в России, куда прибыл в июле 1769 г. Он хорошо подготовил поездку, еще зимой написав в Петербург, что у него есть два проекта, политический и торговый, которые он может изложить только лично, и просил, чтобы императрица официально пригласила его якобы для подготовки расширенного издания «Наказа». Екатерина II согласилась. Поскольку граф приехал в начале русско-турецкой войны, то он тотчас подал план покорения Крыма и взятия Константинополя. Затем 22 августа (2 сентября) 1769 г. фон Редерн представил проект создания гигантской внешнеторговой компании. Она должна была находиться вне российской юрисдикции и вне государственной администрации, подчиняться только ему и императрице, обладать своим флотом, армией и земельными владениями, правом открывать и завоевывать новые территории, вести военные действия и подписывать соглашения, монополией внешней торговли и особыми привилегиями[364]. По меткому замечанию Екатерины И, Компания становилась государством в государстве, причем Российской империи отводилась роль ее младшей сестры. Императрица по пунктам разобрала проект, не оставив от него камня на камне. Она пыталась растолковать фон Редерну, что в стране земли предостаточно и завоевывать Индию нужды нет, а надо создать компанию для торговли с Персией, куда любой мог бы вложить деньги[365]. Для укрощения прожектера государыня опять-таки обратилась к графу Панину: «Заставьте гр. Редерна делать проект о персидской коммерции; наденьте узду на необузданные его мысли. Проект его компании бешеной: аглинская Ост-Индская компания щенок против его, да и она села на шею правительству»[366]. Через месяц Екатерине II пришлось отвергать уже следующий план фон Редерна, посвященный торговым путям через Украину, Польшу и Данциг, причем она использовала те же формулы, что и в деле Мерсье де ла Ривьера[367]. Далее, по свидетельству императрицы, немец показал себя столь же бестолково корыстолюбивым, как француз, ибо начал сватать сына за самых богатых наследниц России, а главное, продолжал подавать неисполнимые проекты. Граф фон Редерн представил доклад в Академию наук, предложив реорганизовать ее и, по сути, вверить математикам и метафизикам управление государством. Президент Академии, граф Владимир Орлов, был тем немало озадачен и флегматично заметил, что у этого человека много знаний и воображения, но нет здравого смысла. Наконец, он напрямик ответил фон Редерну, что Академия не претендует на то, чтобы управлять миром (далее мы увидим, как подобные идеи преломились в проектах Ивана Тревогина). Императрица вынесла окончательный приговор: Редерн — человек весьма сведущий, но отмеченный печатью безумия[368]. Из России граф уехал в Польшу, откуда в мае 1770 г. прислал описание политической ситуации страны и предложил объединить усилия Берлинской и Петербургской Академий для немецкого издания «Наказа»[369]. Затем он перебрался в Данию, где безуспешно пытался приобрести земли, а заодно уговорить датский флот, находящийся в Черном море, принять участие в войне против Турции. Он рвался присоединиться к флотилии Алексея Орлова, но в 1771 г. решил вернуться в Германию[370].
Иными словами, всякий прожектер улавливает веяния времени, но выражает их в гротескно-преувеличенной форме. Очень характерно соединение в один узел внутренних реформ, внешнеполитических и торговых проектов — так поступает большинство иностранных утопистов и авантюристов. Но именно над этим комплексом проблем билась императрица и ее правительство. Не случайно писала она в ответе фон Редерну о зоне естественных экономических интересов: «Торговля России не нуждается в завоеваниях, но ей будет полезно, чтоб ее товары по достоинству оценили там, где сама природа нас к этому побуждает и где к тому же это с легкостью можно произвести вместо того, чтобы искать приключений вне этой зоны»[371]. Екатерина II была противницей монополии в сфере торговли и не желала впутывать государство в коммерческие предприятия. Она предпочитала завоевывать новые земли силой оружия, не полагаясь на помощь негоциантов, и начертала резолюцию на поданном ей через графа Н. И. Панина анонимном «Мемуаре о коммерции, каковую можно установить между Россией, Западной Индией и Китаем»: «Это дело купцов — торговать, где им вздумается, я же не дам ни людей, ни кораблей, ни денег и навсегда отказываюсь от всяких земель и владений в Западной Индии и Америке»[372].
Другое дело, что зона интересов России в XVIII в. стремительно увеличивается и будет расширяться до конца столетия: вспомним Персидский поход Валериана Зубова, прерванный Павлом I, и казаков, посланных императором в Индию[373]. В нее включается не только Балтийское и Черное море, но и Тихий океан — Америка и Япония.
Когда в 1795 г. французский эмигрант Жан Доминик Жозеф д’Огар (1747–1808), бывший морской офицер, склонный к мистике и богословским штудиям, послал Екатерине II мемуар о торговле с Японией, государыня назвала его невеждой, первым безумцем Европы и добавила: «Молю Бога, чтобы он не оказался в придачу одним из первых шарлатанов на свете»[374]. Но благодаря рекомендации Ф. М. Гримма д’Огар приехал в 1796 г. в Россию, где продолжал работать над своим проектом[375]. Через год он был определен в петербургскую Публичную императорскую библиотеку, создавал «депо манускриптов», впоследствии стал вице-директором. Способствовал обращению в католичество многих русских аристократок.
Внешнеполитическую программу развития России сформулировал Сумароков в одах Екатерине II, предсказывая: «Скоро сон мой будет явен // Бред мой истиной внемли»[376]. Он утверждал, что надо двигаться не на Запад, а на Восток[377], соединяя силу оружия и торговли, которая способствует обогащению и процветанию страны:
Горы злато изливают,
Златом плещет окиян;
Села степи покрывают
И пустыни многих стран. […]
За протоком окияна
Росска зрю американа
С азиятских берегов. […]
Зыблется престол под ханом,
Огнь от севера жесток,
И Российским Тамерланом
Устрашает весь восток.
(«Дифирамб государыне императрице Екатерине II на день тезоименитства, 24 ноября 1763 г.»)[378]
В «Оде» Екатерине II от 21 апреля 1764 г. Сумароков выдвигает лозунг крестового похода, обращения неверных в истинную веру:
От тьмы греховной их избавим,
Познают Бога там цари,
И там безсмертному поставим,
На пользу смертных, алтари. […]
Уже глас Севера я внемлю,
Мы блата в сушу претворим,
Селением покроем землю,
Восток России покорим:
Дойдем до жаркого мы Юга[379].
В «Оде» Екатерине II от 28 июня 1768 г. он пишет о мирной торговой экспансии:
Законов и царей где нет,
Простри туда свою державу!
Обряшешь тамо новый свет
И новую России славу.
Спряги со западом восток! […]
С курильских мелких островов
Устави нам торги с Нифоном [Японией] […]
Византия, Архипелаг
Увидят ли Российский флаг?
И то нам должно быти вскоре.
Увидев Росски корабли,
Америка, не ужасайся[380].
Отметим, что и внутриполитические проекты преобразования страны отнюдь не нейтральны с политической точки зрения. Обычно в них предлагаются два пути: образование и освобождение народа. Французские просветители, в первую очередь Дидро и Гримм, сотрудничают с Екатериной II и И. И. Бецким для создания системы всеобщего обучения, от начальной школы до университета, присылают планы в 1770-е годы[381]. Они делают акцент не на теории воспитания, а на практических шагах и предлагают использовать для России не французскую католическую, а немецкую протестантскую систему образования. Как известно, в своей реформе Екатерина II использовала австрийскую модель педагогических училищ и образцовых школ, чей опыт в 1780-е годы распространял Янкович де Мириево. У французских дипломатов, враждебно настроенных по отношению к России, все педагогические проекты вызывали опасения. 7 июня 1765 г. французский посланник маркиз де Боссе сообщал герцогу де Пралену из Петербурга об открытии под попечительством И. И. Бецкого школы для 80 детей с учителями-французами: «Если это учреждение продолжит свою деятельность, то будет опасным для Европы. Оно создаст здесь третье сословие — питомник ремесленников, купцов и мореплавателей, на котором зиждется сила империи»[382].
Второй путь, более утопичный, предусматривал создание поселений вольных колонистов, лучше всего швейцарцев: они-дё послужат очагами свободы, которая затем распространится в России[383]. Дидро развивал этот план в написанных им главах о России для «Истории обеих Индий» аббата Рейналя[384]. Философ предлагал также преобразовать Уложенную комиссию в постоянно действующий парламент и тем самым заложить в России начатки демократии и законодательной власти.
Но, съездив в Петербург и проведя зиму 1773–1774 гг. в беседах с императрицей, Дени Дидро стал весьма скептически относиться к возможности цивилизовать Россию. По его мнению, обширность территорий и отсутствие дорог не позволяют управлять страной из единого центра. Суровый климат и длительная зима, останавливающая сельские работы, располагают население к лености и пьянству. Иноземные ученые, переселенные на русскую почву, вянут, как экзотические растения на морозе. Лучшее, что может случиться с Российской империей, — это ее крушение, распад на дюжину мелких государств: тогда порядок, наведенный в одном из них, послужит примером для других.
Распространение в России республиканских идей всячески поддерживалось французскими дипломатами. В конце царствования Елизаветы Петровны шевалье д’Эон написал мемуар «Рассуждение о легкости революции в России по смерти императрицы, с Планом, коему надобно было бы следовать, чтобы преуспеть, и о возможности осуществления его в дальнейшем», где призывал «отменить позорное рабство» и совершить «революцию в форме правления, сделав его свободным». Но для того, чтобы ослабить, а не усилить страну: «Свобода, единожды проникнув в Российскую империю, заставит ее впасть в анархию, подобную польской […] Всякий русский, кто получил образование и путешествовал, сотни раз вздыхал над несчастной долей в приватных со мной беседах. Те, кто читает французские брошюры, а тем паче английские, объявляют себя приверженцами самой смелой философии и противниками, вместе с друзьями своими, деспотического и тиранского государства, в котором они живут»[385]. Д’Эон сохранил интерес к республиканским идеям и включил в шестой том своих «Досугов» перевод английского сочинения XVII в. «О превосходстве свободного государства», где в главе «Конституция правовой республики» отстаивается принцип верховной власти народа[386].
После переворота, приведшего на трон Екатерину II, французский посол барон де Бретей доносил в Версаль: «Форма правления тяготит большую часть русских, беспременно все хотят освободиться от деспотизма, и я такого мнения, что если императрица потеряет сына, то ей, дабы удержаться, придется отдать власть нации; в частных и доверительных беседах с русскими я не забываю дать им почувствовать цену свободы и свободы республиканской — крайности по вкусу нации, ее грубому и жестокому духу; хотя будущее непроницаемо, я льщусь надеждой увидеть, как обширная и деспотическая Империя разлагается в Республику, управляемую группками сенаторов. Самым счастливым днем мой жизни будет тот, когда я стану свидетелем этой революции»[387]. Вернувшись на родину, посол развил эти идеи в «Мемуаре о России» (1763), доказывая, что «надо постараться сокрушить русскую нацию с помощью ее самой»: «Уже двадцать лет, как правительство неосторожно отпускает многих молодых людей учиться в Женеву. Они возвращаются с головой и сердцем, наполненными республиканскими принципами, и вовсе не приспособленными к противным им законам их страны»[388].

Как мы видим, у императрицы были основания подозревать скрытый умысел в благородных планах, тем более что тайная дипломатия частенько вербовала писателей и философов. Но в первую очередь Екатерина II стремилась защитить репутацию — свою и своей страны. Она предлагает просвещенной публике собственную версию того, почему европейские проекты проваливаются в России: виноваты не ученики, а учителя. Она старательно подбирает зрителей-очевидцев, в первую очередь известных иностранцев, и подсказывает, как относиться к происходящему, подобно тому как персонажи ее комедий прямо обращаются к зрительному залу. Императрица в комических тонах излагает историю в письмах, посылает копии третьим лицам, как, например, Фальконе. Она пишет комедии и рассказывает анекдоты о философах иностранным дипломатам, в частности послам Франции и Австрии графам де Сегюру и фон Кобенцлю. Тем самым она порождает новые тексты: мемуары и драматические пословицы своих «карманных посланников». Обнаружив удачную формулу или позаимствовав ее из полемики Вольтера и Руссо, Екатерина II многократно пускает ее в ход. Таков, в первую очередь, образ «человека на четвереньках». 30 августа 1755 г. Вольтер, прочитав «Рассуждение о начале и основании неравенства между людьми», пишет Руссо: «Я получил, милостивый государь, вашу новую книгу о роде человеческом […] когда читаешь ваше сочинение, берет охота ходить на четвереньках». Фернейский патриарх иронически изображает философа как человека, впавшего в детство, превратившегося в дикаря, в первобытное существо. Письмо Вольтера немедленно попадает в печать, красное словцо становится публичным и порождает пьесу. Шарль Палиссо в комедии «Философы» (1760) разоблачает энциклопедистов, в первую очередь Дидро, Гримма и Руссо, как шарлатанов и обманщиков. В кульминационной сцене Криспен, пародируя Руссо, ходит по подмосткам на четвереньках и жует лист латука:
Pour la philosophie un go?t a qui tout c?de
M’a fait choisir expr?s l’?tat de quadrup?de;
Sur ses quatre piliers mon corps se soutient mieux,
Et je vois moins de sots qui me blessent les yeux […]
En nous civilisant, nous avons tout perdu,
La sant?, le bonheur et m?me la vertu.
Je me renferme done dans la vie animale;
Vous voyez ma cuisine, elle est simple et frugale.
[Il tire une laitue de sa poche][389]
Екатерина II переосмысливает расхожую формулу: недотепами оказываются иностранцы, не считающие русских за людей. В комедии «Передняя знатного боярина» (1772) на четвереньках разгуливают заморские просители: турок Дурфедгибасов, «пастух во дворянстве», едва ли не блеющий, как его овцы, и француз Оранбар (читай — Мерсье де ла Ривьер): «Я пришел сюда за тем: я бул в свой земля и думал тамо, что здесь все ходят едаки [он показывает, как ходят на четвереньках]. Я добро человек, сердца хорошо, много знай, много читай; я и пошол сюда, дабы поднять всех вам на два нога, и для того сошинил l’?vidence, что лучше ходи на две ноги, а не как на четыре, так буди пригожа, лица видна: едак на четыре ходить шей вытянать, горло и борода болеть будит… Ето ?vidence, Messieurs, ?vidence!»[390]. Оранбар трусоват и скуп, он едва знает страну, но тем не менее дает советы по любому поводу, в том числе, как победить турок. Через два года императрица напишет Вольтеру, вернув остроту автору: «И г-н де ла Ривьер, который шесть лет назад полагал, что мы ходим на четвереньках и соблаговолил приехать с Мартиники, дабы поднять нас на задние лапы, также прибыл не вовремя»[391]. Шутливый образ блаженной страны дураков и блаженного философа соединяются воедино.
В комедиях, письмах и устных рассказах Екатерина II обвиняет чужеземных прожектеров в том, что они всё хотят переиначить. «Мой прожек хорошо и не трудно. Он немножно все что прежде делано испортит: и все так ново делать буделись», — уверяет Оранбар[392]. Государыня рассказывала графу де Сегюру, что Мерсье де ла Ривьер вбил себе в голову, что его призвали управлять страной и просвещенным разумом своим вывести страну из мрака варварства[393]. Она категорически отказалась использовать предложения Дидро, для осуществления которых, по ее словам, пришлось бы все перевернуть вверх дном. «Вы пишете на бумаге, которая все стерпит, — якобы сказала она философу по свидетельству графа де Сегюра, — я же, бедная императрица, имею дело с человеческой кожей»[394]. Иностранцы пишут историю России, не зная языка, как Сенак де Мейян, вообще не разбираются в особенностях страны. «Что до торговли с Японией, то по мне у него нет ни тени представлений о местных условиях», — отзывается императрица о проекте шевалье д’Огара[395].

В комедии Екатерины II «Имянины госпожи Ворчалкиной» (1772) банкрут Некопейков предлагает множество способов обогащения: «Я столько примыслил доставить России денег […], что всякий, кому они понадобятся, иметь будет только труд поднимать их с улицы, где они валяться станут»[396]. В частности, он сочинил проекты об учреждении почты на голубях, об употреблении крысьих хвостов вместо веревок, об извозе зимою в степных местах на куропатках, где их много, а лошадей мало, а также о создании внешнеторговой компании, где все расходы относились бы на счет казны, которая поставит корабли, а доходы шли пайщикам. Похоже, что императрица вспомнила о проектах фон Редерна и о собственном горьком опыте создания в 1763 г. на паях Средиземноморской компании. Как утверждает Некопейков, «вы не можете мне поверить, как чист и волен тогда ум, когда пуст карман и кошелек»[397]. Граф фон Кобенцль перефразирует его слова, высмеивая Мерсье де ла Ривьера в драматической пословице «Маньяк Власти» (1789). «Мой господин превыше всех государей, — уверяет слуга Голодный, — ибо с момента рождения только и делает, что поучает их. У него ни пяди земли, но он знает, как увеличить стоимость чужих владений; порой у него нет ни гроша в кошельке, но он самый великий финансист на свете. Он в жизни не видал ни боевых кораблей, ни полков, но если соизволит встать во главе армий и флотилий какой-нибудь державы, то завоюет весь мир; одним словом, он универсальный гений, сосредоточивший в себе все знания, необходимые для управления империей»[398]. Создавая сатирические портреты философов, Екатерина II й граф фон Кобенцль, по-видимому, опять-таки следуют за Вольтером, который, полемизируя с данной Руссо оценкой России, издевался над «законодателями, которые повелевают вселенной на листе бумаги и со своего чердака отдают приказания королям», над «придворными и деревенскими сумасшедшими», которые «в мыслях управляют страной в две или три тысячи миль, а справиться с экономкой не могут»[399]. Подобно философам, Некопейков кончает плохо: его изгоняют, хотят сделать из него шута. Символично, что Дидро привез из России эту комедию, видимо, подаренную царицей, и подписал на титуле перевод названия: «La femme boudeuse ou La grondeuse». В 1775 г. он продал ее Королевской библиотеке вместе с другими русскими книгами, поставив крест на своих планах, связанных с Петербургом.
Сама логика повествования подсказывала Екатерине II колоритные подробности. Так, гротескный рассказ о пребывании в Петербурге Мерсье де ла Ривьера, который якобы снял три соседних дома, дабы разместить там подчиненные ему министерства и департаменты, и даже повесил на дверях комнат соответствующие таблички, появился спустя тридцать лет в комедии Кобениля и мемуарах Сегюра. В. А. Бильбасов справедливо считает данный эпизод маловероятным; у дипломатов, видимо, был один общий источник — рассказ императрицы.
Но иностранные дипломаты, защищая репутацию императрицы, играют с ней злую шутку, упоминая о ее склонности к прожектерству и невольно показывая правоту философов. Граф де Сегюр утверждает в «Мемуарах», что Екатерину II привлекало множество скороспелых планов, которые она не могла реализовать, ибо хотела всего сразу: «создать третье сословие, привлечь иностранную торговлю, улучшить ведение сельского хозяйства, […], покорить Персию, продолжать постепенно завоевывать Турцию […] и распространить свое влияние на Европу»[400]. Ему вторит граф Людольф в «Письмах о Крыме» (1787): «В этой стране постоянно появляются новые планы; они могут быть лишь вредными, если они не выполняются с мудростью и если не представляют никакой действительной пользы; но я замечаю, что это самая обильная проектами в мире страна»[401].
Чтобы довести до абсурда идеи Мерсье де ла Ривьера, граф фон Кобенцль излагает целую программу шутовских реформ. Чтобы сделать людей счастливыми, господин Маньяк Власти предлагает установить полное равенство, уничтожить города, которые только умножают роскошь, предписать всем жителям единообразные парики, платье и питание, а главное — радикально уменьшить их число, дабы увеличить их долю от общих богатств. Если антиурбанистические идеи, которые появляются также в утопическом романе князя М. М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую», войдут в моду в следующие века, то уравнительные идеи восторжествуют в год выхода пьесы — 1789[402]. В 1798 г. Томас Роберт Мальтус в «Опыте о принципах народонаселения» докажет, что прирост населения обгоняет рост производства, а потому должен быть ограничен.
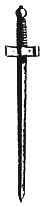
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ТАУБЕР
НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ТАУБЕР Не в галилейской – в галльской Канне Ваш совершился тайный брак, Как в самом выспреннем романе – Вдали от сплетен, слухов, врак. А старый друг от чувств избытка Вам пожелает лишь одно – Чтоб воду брачного напитка Вы претворили бы в
Бизнес при Императорском дворе
Бизнес при Императорском дворе Следующий важный вопрос связан с определением степени вовлеченности членов Императорской фамилии и их окружения в частное предпринимательство.Следует отметить, что на протяжении XVIII – первой половины XIX в. непосредственное окружение
Ювелирный альбом Екатерины I
Ювелирный альбом Екатерины I Подбор драгоценностей «на высшем уровне» был делом не только ответственным, но и хлопотным. Драгоценности того времени стали своеобразным отражением переходности петровской эпохи. Например, среди счетов Екатерины I встречаются упоминания
От Екатерины I до Александра III
От Екатерины I до Александра III После смерти Петра I на протяжении практически всего XVIII столетия евреев в Петербурге, да и во всей России, если не считать отдельных далеко нехарактерных случаев, не было. Даже те, что были, согласно указу Екатерины I, который она, едва
Самооправдание и самоутверждение: мемуары Екатерины Великой и Екатерины «Малой»
Самооправдание и самоутверждение: мемуары Екатерины Великой и Екатерины «Малой» В отличие от воспоминаний, о которых шла речь выше, две другие мемуаристки, к обсуждению текстов которых я перехожу, имели совершенно иной общественный статус, и их записки, как правило,
Записки императрицы Екатерины II
Записки императрицы Екатерины II Автор: Екатерина IIГод и место первой публикации: 1859, ЛондонИздатель: Искандер (Александр Герцен)Литературная форма: мемуарыСОДЕРЖАНИЕЗаписки императрицы Екатерины II известны в нескольких редакциях, между которыми существуют
Прием послов при дворе
Прием послов при дворе Василий находился в тесных отношениях с европейскими государями и гордился тем, что оказывал милости их послам в России. Однако иноземным послам были в тягость скучные обряды, и они жаловались на эти тягостные, хотя и радушные приемы.О церемонии
Блестящее окружение Екатерины
Блестящее окружение Екатерины Екатерина II умела окружить себя талантливыми людьми. В истории остались имена таких выдающихся государственных деятелей и полководцев, как П.А. Румянцев, ГА. Потемкин, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, А.Р. и С.Р. Воронцовы, С.М. Голицын и
А.С. Пушкин о царствовании Екатерины
А.С. Пушкин о царствовании Екатерины Н.М. Коняев приводит слова А.С. Пушкина, который убийственно характеризует эпоху Екатерины II: «Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором
Смерть Екатерины
Смерть Екатерины Екатерина, обладавшая невысоким ростом, к концу жизни растолстела и округлилась. Французский дипломат граф Сегюр писал о Екатерине II: «… Чтобы скрыть свою полноту, которою наделило ее все истребляющее время, она носила широкие платья с пышными рукавами,
3. Дейтинг на птичьем дворе
3. Дейтинг на птичьем дворе
Глава 1. Любовь при дворе
Глава 1. Любовь при дворе После войн и анархии шестнадцатого столетия Франция была готова принять эпоху дисциплины. Первая половина семнадцатого века была отмечена сознательными усилиями, направленными на установление порядка в литературе, правлении страной, манерах и
Итальянцы при королевском дворе
Итальянцы при королевском дворе Большой прилив иммиграции итальянцев в Краков связан с бракосочетанием в 1518 году Сигизмунда I с итальянской принцессой Боной Сфорцей д’Арагон – дочерью миланского герцога Джан Галеаццо Сфорцы, которая до замужества жила в Неаполе,