Наша «диаспора»
Русская диаспора за границей, в том числе и во Франции, исторически была сильно политизирована и с французами не смешивалась. О лучших представителях русской диаспоры во Франции — самых известных диссидентах советской поры Владимире Максимове, Марии Розановой, Андрее Синявском и Петре Абовине-Егидесе, я рассказал в своей книге «Убийство советского человека» (М. 2005 г. Издательство «Алгоритм») и поэтому здесь повторяться не буду. Отмечу лишь, что у нас в России часто всех французов русского происхождения зачисляют в «русскую диаспору». В наши «хуацяо». Это неверно и поэтому я решил предварить свой рассказ о русских во Франции кратенькой справкой о том, откуда эта наша диаспора «есть пошла», что позволит читателю легче сориентироваться в бурных волнах русской эмиграции и в ее истории.
Положили начало русской диаспоре несколько столетий назад первые политические противники царизма вроде Курбского еще в период русского средневековья. В Петровскую эпоху появилась и религиозная эмиграция. В целом же в XVI–XVIII вв. русские переселенцы в дальних землях в Западной Европе, Америке, Китае, Африке, Индии были редкостью. С наступлением XIX века русская диаспора во Франции и других европейских странах — это уже явление. В XX веке — неотъемлемая часть политической и этнической реальности мира, расколотого надвое с Октября 1917-го коммунистическими революциями.
Исследователи этого вопроса (см. «Проект Русский Архипелаг» www.archipelag.ru) насчитывают шесть волн русской эмиграции. Первую «волну» политэмигрантов из России вызвали репрессии против участников заговора и восстания декабристов в 1825 г. Главным центром российской эмиграции того времени был Париж. После революции 1848 г. центр этот переместился в Лондон, где, как известно, была основана первая Вольная русская типография (А. И. Герцен и Н. П. Огарев). В основном это была «дворянская эмиграция». Она легко интегрировалась в Европе и имела сравнительно высокий уровень жизни. Многие политэмигранты первой «волны» выехали в свое время вполне легально. Как правило, они не рассчитывали на возвращение и старались заранее обеспечить свою жизнь за рубежом.
Вторая «волна» политэмиграции возникла после польского восстания 1863–1864 гг. Эта так называемая «молодая эмиграция» состояла из тех, кто бежал из России, уже разыскиваемый полицией, кто спасался от тюрьмы, самовольно оставил место ссылки и т. п. Эта волна социальный состав русской диаспоры сильно перемешала: к дворянам прибавились мещане, разночинцы, интеллигенция. Именно тогда, в третьей четверти XIX в., в этой среде появились и профессиональные революционеры, не раз уезжавшие за рубеж и вновь возвращавшиеся в Россию. В Швейцарии возник новый крупный регион расселения политических беженцев, пользовавшийся репутацией «второй России», с центром в Базеле. Этому способствовало и перемещение герценовской Вольной русской типографии из Лондона в Женеву. Русские политические беженцы того времени жили уже не за счет личных капиталов, а за счет литературного труда, уроков в семьях и т. д.
Третья «волна» российской политической эмиграции, возникшая после внутриполитичсекого кризиса в России начала 80-х гг., охватила почти четверть века. Левое крыло российской политической эмиграции («большевизм») заняло в ней ведущее место в первые же годы XX в. Издательства, типографии, библиотеки, склады, касса партии — все это находилось за границей. Политэмигранты иной идейной ориентации из этой «волны», следуя традиции декабристов, занимались подготовкой своей революции в России по типу Великой Французской. Многие из них вступили в масонские ложи. По данным царской «охранки», весной 1905 г., с началом первой русской революции, «вольными каменщиками» стали десятки представителей российской интеллигенции, как временно проживавшие за рубежом, так и эмигранты «со стажем».
Четвертая «волна» эмиграции последовала после разгрома революции 1905–1907 гг.: в эмиграции появились рабочие, крестьяне, солдаты. 700 матросов бежали в Румынию только с броненосца «Потемкин». До начала 80-х гг. XIX в. число покинувших Россию по экономическим мотивам не превышало 10 тыс. человек, но с 1905 г. начало быстро расти. Этот рост продолжался вплоть до торгового договора России и Германии 1894 г., облегчившего переход границы с краткосрочными разрешениями, заменявшими населению паспорта и позволявшими ненадолго выезжать и быстро возвращаться.
Более половины выезжавших из России по экономическим мотивам в конце XIX в. оседало в США, но многие осели на шахтах на севере Франции и в Эльзасе. За период с 1820 по 1900 г. эмигрировали более миллиона подданных Российской империи. В российской историографии начала XX в. господствовало мнение, что тогда эмигрировали лишь «политические» и «инородцы», а «коренное население за границу не уходило». Действительно, отъезд нескольких тысяч собственно русских (что составляло 2 % уехавших) вряд ли сопоставим с исходом евреев (38 % убывших), поляков (29 %), финнов (13 %), прибалтов (10 %) и немцев (7 %). Выезжали российские эмигранты через финские, русские, германские порты, где и велся учет отъезжающих. Но за границей они все, как правило, числились русскими как подданные Российской империи. На основании данных германской статистики известно, что за 1890–1900 гг. выехало всего 1 200 православных. Преобладали мужчины трудоспособного возраста. Согласно сведениям В.Д. Бонч-Бруевича, с 1826 по 1905 г. Российскую империю покинуло 26,5 тыс. православных и сектантов, из которых 18 тыс. выехало в последнее десятилетие XIX в. и пять предреволюционных лет (подавляющая часть выехавших была великороссами).
Экономические соображения по своему формировали «волны» покидавших Россию известных деятелей культуры начала XX в. Их первый «поток» сформировался из «маятниковой миграции»: вначале музыканты H. Н. Черепнин и И. Ф. Стравинский, художники А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, H. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, балетмейстеры М. М. Фокин, В. Ф. Нижинский, балерины А. П. Павлова, Т. П. Карсавина и многие другие лишь подолгу жили за рубежом, но возвращались с гастролей на родину. После Первой мировой войны, которая многих из них застала вне России, и особенно после октября 1917 г., возвращались уже единицы.
Февральская революция 1917 г. означала конец четвертого этапа политической эмиграции. В марте 1917 г. в Россию вернулись даже такие старожилы эмиграции, как Г. В. Плеханов и П. А. Кропоткин. В то же время Февральская революция положила начало и новому этапу российской политической эмиграции (1917–1985), которая после октября 1917 г. приобрела характер антибольшевистской, антикоммунистической, антисоветской. Уже к концу 1917 г. за рубежом оказались выехавшие в течение лета — осени некоторые члены царской фамилии, представители аристократии и высшего чиновничества, выполнявшие дипломатические функции за границей. Однако их отъезд не был массовым. Напротив, количество возвращавшихся после долгих лет пребывания на чужбине было больше числа выезжавших.
Иная картина начала складываться уже в ноябре 1917 г. Подавляющее большинство выехавших в пятую «волну» российской политической эмиграции (около 2 млн. человек) составили люди, не принявшие Советской власти и всех событий, связанных с ее установлением. Это были не только, как писалось раньше, «представители эксплуататорских классов», верхушка армии, купцы, крупные чиновники. Точную характеристику социального состава эмиграции того времени дала уехавшая из большевистской страны поэтесса Зинаида Гиппиус: «… одна и та же Россия по составу своему, как на Родине, так и за рубежом: родовая знать, люди торговые, мелкая и крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция в разнообразных областях ее деятельности — политической, культурной, научной, технической и т. д., армия (от высших до низших чинов), народ трудовой (от станка и от земли), представители всех классов, сословий, положений и состояний, даже всех трех (или четырех) поколений русской эмиграции налицо…»
Людей гнал за границу ужас насилия и Гражданской войны. Поначалу шла эмиграция, как бы в наше время сказали, в ближнее зарубежье. Это прежде всходившие в Российскую империю Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша. Оседание в соседних с Россией государствах объяснялось надеждами на скорое возвращение на родину. Однако позже эти не оправдавшиеся надежды и неприязнь со стороны новых местных властей к русским заставили выехавших податься дальше, в центр Европы — в Германию, Бельгию, Францию. Третье направление — Турция, а из нее — в Европу, на Балканы, в Чехословакию и Францию. Известно, что через Константинополь только за годы Гражданской войны прошло не менее 300 тыс. русских эмигрантов. Судьба их была поистине ужасной. Десятки тысяч солдат и офицеров Белой армии, брошенные на произвол судьбы, погибли в холодных бараках на турецких островах от голода, холода и эпидемий. Четвертый путь эмиграции российских политических беженцев связан с Китаем, где в основном они селились в Манчжурии. Кроме того, отдельные группы россиян и их семьи оказались в США и Канаде, в странах Центральной и Южной Америки, в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Африке и даже на Гавайских островах. Уже в 1920-е гг. можно было заметить, что на Балканах сосредоточивались, главным образом, военные, в Чехословакии — те, кто был связан с Комучем (Комитет Учредительного собрания), во Франции — кроме представителей аристократических семей — интеллигенция, в Соединенных Штатах — дельцы, предприимчивые люди, желавшие нажить капиталы в крупном бизнесе. «Перевалочным пунктом» туда для одних был Берлин (там ждали «окончательной визы»), для других — Константинополь.
Центром политической жизни русской эмиграции в 20-х гг. был Париж, здесь были расположены ее учреждения, и проживало несколько десятков тысяч эмигрантов. Другими значительными центрами русской диаспоры стали Берлин, Прага, Белград, София, Рига, Гельсингфорс. Возобновление и постепенное угасание деятельности за рубежом различных российских политических партий хорошо описаны в литературе. Меньше изучен быт и этнографические характеристики рассматриваемой волны российской политической эмиграции.
Наметившееся после окончания Гражданской войны «возвращенчество» в Россию не приняло всеобщего характера даже после объявленной в 1921 г. политической амнистии, однако в течение нескольких лет оно все же было массовым. Так, в 1921 г. в Россию возвратились 121 343 уехавших, а всего с 1921 по 1931 г. — 181 432 человека. Этому немало помогли «Союзы возвращения на Родину» (самый крупный — в Софии). С вернувшимися репатриантами советские власти не церемонились: бывших офицеров и военных чиновников чекисты расстреливали сразу же после прибытия, часть унтер-офицеров и солдат отправляли в северные лагеря ГУЛАГа. Те кому удалось в этом ужасе выжить, по разным каналам обращались к возможным будущим «возвращенцам» с призывами не верить «гарантиям большевиков», писали и комиссару по делам беженцев при Лиге Наций Ф. Нансену. Так или иначе, но нансеновская организация и проект паспорта, предложенный им и одобренный 31 государством, способствовали размещению и обретению места в жизни 25 тыс. россиян, оказавшихся в США, Австрии, Бельгии, Болгарии, Югославии и других странах.
Пятая волна российской политической эмиграции по понятным причинам совпала и с новой волной религиозной эмиграции из России. В отличие от первого потока уезжавших по религиозным причинам, в послеоктябрьские десятилетия покидали страну не сектанты, а представители православного духовенства. Это были не только высшие его чины, но и рядовые священники, дьяконы, синодальные и епархиальные чиновники всех рангов, преподаватели и учащиеся духовных семинарий и академий. Общее число лиц духовного звания среди эмигрантов было невелико (0,5 %), но даже малочисленность уехавших не предотвратила раскола. Созданные в ноябре 1921 г. в Сремских Карловицах (Югославия) Синод и церковный совет при Высшем русском церковном управлении за границей не были признаны главой Московской патриархии Тихоном, передавшим управление западноевропейскими приходами своему ставленнику. Взаимные обвинения в ереси не притупились и спустя десятилетия. Зарубежная русская православная церковь стала реальностью.
Завершение разгрома фашизма в 1945 г. означало новую эпоху и в истории российской эмиграции. На родину возвращались те, кто испытал гонения и преследования в годы «коричневой чумы». Но вернулись далеко не все, и даже не большая часть эмигрантов нынешнего столетия. Кто-то был уже стар и боялся начинать новую жизнь, кто-то опасался «не вписаться» в советский строй жизни… «Во многих семьях произошел раздел, — вспоминала В. Н. Бунина, жена писателя. — Одни хотели ехать, другие оставаться…» Те, что не вернулись «к большевикам» и остались, составили так называемую «старую эмиграцию». Вместе с тем возникла и эмиграция «новая» — это были покинувшие родину россияне шестой «волны» политэмиграции (и второй после октября 1917 г.). «Новую эмиграцию» составляли преимущественно «ди-пи» — displaced persons («перемещенные лица»). Их после окончания Второй мировой войны было около 1,5 млн. Были среди них и советские граждане, в том числе русские — военнопленные, насильно вывезенные в Европу, а также военные преступники и коллаборационисты, стремившиеся избежать заслуженного возмездия. Все они сравнительно легко получали льготные права на иммиграционные визы в США: в посольстве этой страны не было проверки на бывшую лояльность по отношению к фашистским режимам. Всего же в разных странах мира только при содействии Международной организации по делам беженцев было расселено около 150 тыс. русских и украинцев, причем более половины — в США и примерно 15–17 % — в Австралии и Канаде. При этом «беженцами» стали называть и жертв нацистского или фашистского режимов, и коллаборационистов, и тех, кто в условиях сталинского тоталитаризма «преследовался вследствие политических убеждений». Последним президент США Трумен просил оказывать «особую помощь и поддержку» на том основании, что «среди них имеются способные и смелые борцы против коммунизма».
Новая и последняя до «перестройки» политическая эмиграция из России возникла в конце 60-х гг. вместе с движением инакомыслящих, диссидентов. Считается, что в ее основе лежали (в порядке значимости) национальный, религиозный и социально-политический факторы. Первый из перечисленных для русской нации значения не имел, второй и третий же, действительно, повлияли на рост числа желающих уехать.

Русский продуктовый магазин в Париже, 1930 год
В западной печати фигурируют разноречивые данные о количестве покинувших СССР в годы «застоя». Наиболее часто встречается цифра 170–180 тыс. человек за 1971–1979 гг. и другая — 300 тыс. человек за 1970–1985 гг. Однако следует учитывать, что абсолютное большинство эмигрантов того времени выезжали по израильским визам (только в 1968–1976 гг. было выдано 132 500 виз для выезда в Израиль). Разумеется, среди этих уехавших были и не евреи — русские, украинцы, люди других национальностей, главным образом, диссиденты, «вытолкнутые» из страны по израильским визам (например, Э. Лимонов), а также русские — члены еврейских семей. Однако определить количество уехавших русских в общей численности эмигрантов 69–70-х гг. пока возможности нет.
У русских могил
… Авторут А-6 в нескольких километрах от Парижа распадается надвое. Новая автострада А-11 ведет на Лонжюмо, где до революции В. И. Ленин и Н. К. Крупская организовали партийную школу для большевиков, а оттуда — на Шартр и Нант, к Атлантике. Старая — на Лион, к Средиземному морю. Если ехать по шестой на юг, примерно через полчаса увидишь указатель поворота на городок Сен-Женевьев-де-Буа. Он ничем особо не примечателен, кроме «русского православного кладбища». Первые могилы появились там в 1927 году на участке, который был выкуплен покровительницей Русского старческого дома у местного погоста. Поэт Роберт Рождественский написал об этом святом для нас месте так:
Здесь похоронены сны и молитвы.
Слезы и доблесть,
«Прощай!» и «ура!»
Штабс-капитаны и гардемарины.
Хваты-полковники и юнкера.
Белая гвардия.
Белая стая,
Белое воинство, Белая кость.
Влажные плиты травой зарастают.
Русские буквы.
Французский погост…
Да, в основном тут белая кость. И не какая-нибудь захудалая, а отборная. Уцелевшие Романовы — князья Гавриил, Андрей, Владимир. Князья Юсуповы, в том числе и сам Феликс Юсупов, организатор убийства Распутина, князья Гагарины, Голицыны, Оболенские, графы Зубовы, Вырубовы, Татищевы. Рядом с ними — потомки Радищева и Пушкина, Сумарокова и Одоевского.
Могилы белой гвардии выстроились в последнем каре вокруг святыни белого движения — копии Галиполийского мемориала, разрушенного в 20-х годах землетрясением. По его цоколю надписи: «Корнилову и всем корниловцам», Деникину, Колчаку, Врангелю, Алексееву, Маркову… Как в учебнике истории, имена за рядом ряд, даты, знакомые по летописи гражданской…
Галиполийцы, донские артиллеристы, Русский кадетский корпус, казачьи полки. На памятнике дроздовцам выписка из последнего приказа начальника дроздовской дивизии, генерала А. В. Туркула: «Севастополь, 2 ноября 1920 года. Покидая родную землю, храните память о 15 тысячах убитых и 35 тысячах раненых дроздовцев, проливших кровь свою за честь и свободу Отчизны. Этими жертвами мы неразрывно связаны с Родиной…»
Надолго порвалась эта связь у «русской диаспоры». Первые годы они еще ждали, верили, что возвращение в родные края не за горами. Но время шло, и они, наблюдая из парижского далека за событиями в Советской России, все отчетливее осознавали, что лишь на одной небольшой полоске земли их всегда готовы принять такими, какими они были, — на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Я впервые увидел его в 1988 году, еще в то время, когда поездки в такие места в Советском Союзе, мягко говоря, не приветствовались.
Я попал в другой мир. Вроде бы и русский, но, как показалось мне тогда, нереальный. Когда на могиле белогвардейского полковника я увидел исхудавшего до прозрачности человека в махровой панамке, который, ни к кому не обращаясь, сказал: «Я здесь, господа, в гостях у своего начальника, полковника Анатолия Ивановича Кульнева…», я вдруг почти физически ощутил, что переступил какую-то невидимую границу, отделяющую реальный мир от потустороннего, что путешествую в давно прошедшем, в умершем, а раз так, то и мне необходим свой Вергилий, знаток загробных маршрутов…
Случай явил мне его совершенно неожиданно в лице председателя комитета русского кладбища Григория Юрьевича Христофорова. Он сразу же сообщил мне, что воевал в армии Врангеля. Тогда ему было, видимо, не меньше 18 лет. Значит, он — минимум ровесник века.
Ровесник века смотрел на меня пристальным и изучающим взглядом, поглаживая время от времени чисто бритую голову, словно проверял, не осталось ли где незамеченного «островка». Память у него ясная, мысль четкая, выправка сохранилась еще с тех офицерских времен… Воевал он не только во врангелевской, но и во французской армии против немцев. Потом был плен, затем отпустили к вишистам. А они не воевали. Кем только не работал… И во Франции, и в Алжире. Чаще всего таксистом. Трудно ли было? Трудно. Французы все же русских эмигрантов не признавали за равных. Столбовые дворяне, родовитые князья шли в привратники, в официанты, крупье, а то и просто в рабочие. Сколько их было?
Эмигрантские «Последние новости», издававшиеся тогда в Париже, писали в апреле 1920-го: «Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа, ушел весь цвет страны, все те, в руках кого было сосредоточено руководство ее жизнью, какие бы стороны этой жизни мы ни брали. Это уже не эмиграция русских, а эмиграция России…» Над этими строчками впоследствии, бывало, посмеивались — эка, хватили! Россия-то осталась на тех же параллелях и меридианах, где извечно стояла! Да, осталась. Но, увы, без значительной части той элиты, той интеллигенции, которая составляла ее законную славу. Далеко не все приняли революцию сразу, безоговорочно, как Маяковский, Блок, Брюсов, Тимирязев. Не всех удержала на якоре любовь к родине, как Анну Ахматову. Не все решили вернуться, как Алексей Толстой и Александр Куприн, Марина Цветаева и Андрей Белый. Не найдя себе места в Советской России, предпочли эмиграцию Иван Бунин, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, поэты Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Ирина Кнорринг, художник Коровин… Во Франции осталась целая плеяда писателей, к сожалению, на десятилетия вычеркнутых из русской литературы. К российскому читателю только в конце 80-х годов стали возвращаться не прочтенные нами классики русской литературы — Евгений Замятин, Георгий Адамович, Алексей Ремизов, Георгий Иванов, Владимир Набоков, Иван Шмелев…
За ними пришли еще и десятки других — поэты Владимир Злобин и Иван Савин, Владимир Смоленский, Георгий Раевский, Анна Присманова, Юрий Трубецкой, Дмитрий Кленовский, Анатолий Величковский, Владислав Ходасевич, прозаики Владимир Варшавский, Яков Горбов, Сергей Шаршун, который к тому же был и известным художником…
С моим Вергилием-врангелевцем иду вдоль могильных плит русского кладбища в Сен-Женевьев-де-Буа. У могилы балерины Ольги Преображенской мы останавливаемся, и Христофоров говорит: «Когда ваш балет (я отмечаю про себя это в кавычках «ваш») на гастролях здесь, кто-нибудь обязательно приходит к ней с цветами. Помнят…» А вот там, на другой аллее, поближе к центральной, в 1986 году похоронили Сергея Лифаря… Знаете его, конечно, наш балетмейстер из Киева…» («Наш»…) «Французы… Особенно молодежь… Для них эти могилы что? Чужое, непонятное. Балуют, — ворчит Христофоров. — С казачьих могил потаскали георгиевские кресты на сувениры. Да и только ли это… А тут, посмотрите, какие люди лежат!»
Запыленные надгробия над могилами художников К. А. Коровина, К. А. Сомова, артистов МХАТа Петра Павлова и В. М. Греч. Могилы балетмейстера А. Е. Волынина, танцевавшего когда-то со знаменитой Анной Павловой, балерины В. А. Трефиловой, балерины Кшесинской.
Кшесинскую любили трое Романовых. Первым ее любовником был будущий император Николай II, с которым она рассталась в 1894 г., записав в своем дневнике: «Я потеряла своего Ники…» После Николая у нее был бурный роман с двоюродным братом Николая, князем Сергеем Романовым, а затем с князем Андреем Романовым, который был младше ее на 7 лет. От него в 1920 г. уже во Франции она родила сына Андрея. В 1921 г. они обвенчались, и она стала не Романовой, т. к. брак был морганатический, а княжной Романовской-Кшесинской. Под этим именем она и похоронена в одной могиле с князьями Андреем и Владимиром Романовыми.
«Люди, понимаете, умирают, — говорит Христофоров, поправляя опрокинутый ветром цветочный горшок на могиле княжны Гагариной, — а следить за могилами некому. — А ведь это — наша история, ее хранить надо…»
Скромное надгробие-крест над могилой И. А. Бунина. Он — первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию в области литературы в 1933 году. Еще скромнее могилы писателей А. Ремизова и И. Шмелева. Лежат под одним надгробием поэты «белой гвардии» и «черной ненависти» к большевикам — Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) и его жена — Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская (1869–1945).
Да, их можно было упрекнуть во многом, особенно Мережковского за его увлечение Пилсудским и ранним Муссолини. Но можно ли было на этом основании вычеркнуть их из нашей литературы, отринуть их Слово? В феврале 1927 года в обществе «Зеленая лампа» (в XIX веке существовало такое же общество в России, и его собрания посещал А. С. Пушкин), объединявшем цвет русской интеллигенции в Париже, с докладом «Русская литература в изгнании» выступила 3. А. Гиппиус. Она сказала (этот отрывок я привожу по книге Юрия Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека») буквально следующее:
«Скажут, пожалуй: изгнание, эмиграция — это такие неблагоприятные условия, что нечего и ждать, кроме анабиоза. Но ведь и в России условия для процесса жизни не очень-то благоприятны. Мы их знаем. Рабство, нищета, насильническое вытравливание моральных ценностей, отрыв от общеевропейской культуры, беззаконие и бесправие, — если эти условия положить на одну чашу весов, а на другую наши условия: чужая земля, сознание безродности, распыленность, трудность заработка и т. д., — не думаю, чтобы вторая перевесила. Даже, думаю, первая окажется тяжелей. Но чтоб не вызывать лишних споров, поставим между неблагоприятными условиями там и здесь знак равенства. Что ж, разве мы считаем, что Россия в анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там, в глубинах, происходят изменения, что дал людям в России их кандальный опыт?
Опыты наши различны. Но ихний впоследствии пригодится нам, а им — наш. Ничья паника, что вот, мол, мы с ними разделены, на меня не действует: между нами — нерушимая связь. Одно разделение, впрочем, я вижу и предлагаю его принять: это разделение труда. По тому же предмету нам задан судьбой один урок, им — другой. Вот и все…» Гиппиус трудно отказать в логике. Учтите, доклад был сделан в 1927 году. А уж в 1937-м! Отмечу, что присутствовавший на том вечере «Зеленой лампы» И. А. Бунин тоже выступил против мифа о невозможности писать в эмиграции. «Говорят: там (в России. — В. Б.) счастливые, а мы здесь… — смеялся он над авторами этого мифа. — Переселение, отрыв от России — для художественного творчества смерть, катастрофа, землетрясение… Выход из своего пруда в реку, в море — это совсем не так плохо и никогда плохо не было для художественного творчества… Но, говорят, раз из Белевского уезда уехал, не пишет — пропал человек…» Пропадали не от того, что не писалось, а от тоски, от бедности и одиночества.
Только Константин Бальмонт выпустил за границей с 1920 по 1931 год такие сборники стихов: «Светлый час», «Из мира поэзии», «Дар земле», «Марево», «Зовы древности», «Сонеты солнца, меда и луны», «Мое — ей», «В раздвинутой дали», «Северное сияние». Всего этого мы в СССР не знали. Бальмонт мучился оттого, что связь с Родиной потеряна. Как поэту, ему не хватало Антеевой связи с родной землей, с языком предков. В 1931 году слабеющей рукой он написал: «Есть в году праздник всех святых. Хочу и верю: будет в истории праздник всех славян…» Муза его слабела, он в последние годы своей жизни почти ничего не написал. Умер Бальмонт в русском общежитии в Нуази-ле-Гран, устроенном легендарной матерью Марией, 26 декабря 1942 года. Всего несколько человек пришли с ним проститься…
Пример Бальмонта порой приводили как хрестоматийный, говоря об «обреченности» русского писателя в эмиграции на творческое бесплодие и безвестность. Но о бесплодии тут говорить явно не приходится. И только Бога можно благодарить за то, что ему удалось спастись от палачей ЧК и его не постигла судьба расстрелянного чекистами поэта Гумилева или Осипа Мандельштама, погибшего в ГУЛАГЕ. Страшно подумать, сколько талантов, какой цвет русской культуры сгубили сталинские палачи!
Русская эмиграция, обреченная на отрыв от Родины, скитания и материальные лишения, создала богатейшую литературу. С 1918 по 1932 год за границей существовало 1 005 русских периодических изданий. В период с 1919 по 1952 год увидели свет 2 230 эмигрантских журналов и газет. В американских источниках есть такие цифры: за период с 1918 по 1968 год в эмиграции было создано 1 080 романов, больше тысячи сборников стихов. С кем были эти мастера культуры, по большей части нам неизвестные, все эти годы? Их в эмиграции скопом и автоматически зачисляли в антикоммунисты и антисоветчики. А потом уже в советских «литературных исследованиях» появлялись ссылки на «западные источники», где «точно сказано»: писатель-эмигрант имярек — убежденный «антикоммунист», «противник» и т. д. Это означало, что такому писателю после этого доступ в литературу на родине был закрыт.
…Березы, как и на наших погостах, ласкают плакучими ветками камни кладбища Сен-Женевьев-де-Буа. Писатель Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950). Один из самых значительных русских прозаиков XX века. Судьба его — и личная, и литературная — трагична. Его сын, белогвардейский офицер, добровольно перешел на сторону революции, но был расстрелян красными в Крыму. В Париж Иван Шмелев уехал по ходатайству Луначарского. Оставаться там не собирался. Говорят, не возвращаться уговорил его И. А. Бунин. Но затем тот же Бунин вместе с Николаем Рощиным обвинил его в «сотрудничестве с немцами». На том основании, что главы из романа Шмелева «Лето господне» печатались в антикоммунистической газете «Парижский вестник», выходившей в оккупированном Париже. Непричастность Шмелева к «коллаборационизму» была доказана только много лет спустя. Лишь в 1964 году наш «Новый мир» напечатал несколько отрывков из его «Лета господне».
В августе 1990 г. моя давняя знакомая Марина Дориомедова пригласила меня к себе в гости в скромную студию, в которой все свободное пространство занимали книги. Судьба у нее сложилась непросто. Она родилась и выросла во Франции, а русскому языку ее учила бабушка — воспитанница Смольного института благородных девиц. Марина окончила физико-химический факультет Парижского университета и защитила французскую «докторскую», а по-нашему кандидатскую диссертацию. Затем неожиданно ушла монахиней в католический монастырь и пробыла там десять лет. Но видно сказалась русская кровь, и Марина отказалась и от монашеского обета, и от католицизма и перешла в православие.
Во время нашей встречи она рассказала мне что лет за пять до этого ее двоюродная тетя, балерина Ирина Гржебина, дочь известного дореволюционного издателя, жившая в Париже, сообщила ей, что во время уборки своего чулана нашла коробку, на которой было написано имя Юрия Дориомедова, отца Марины. Родители Марины — Юрий и Галина Дориомедовы — погибли совсем молодыми. Гитлеровцы в упор расстреляли их из пулеметов на первых баррикадах Парижа в январе 1944 года. «Мне рассказывали, — сообщила мне Марина, — что на теле отца насчитали 20 пулевых ранений и 50 на теле матери». Она показывает мне документ, подписанный французским генералом Кенигом 7 января 1944 г. Там написано, что Жорж (Юрий) Дориомедов был одним из главных организаторов Русского Сопротивления во Франции. Он участвовал в формировании многочисленных отрядов советских партизан и погиб во время боев за освобождение Парижа. В той же коробке Марина обнаружила рукопись Алексея Ремизова…
Я не поверил своим глазам. На рукописи «Алексей Ремизов. Докука-заяц. Тибетские сказки» стоял его парижский адрес — рю Буалло 7, 16 аррондисман. Находка была и впрямь уникальной, сказки нигде до того не публиковались. Мне вскоре удалось без особых трудов уговорить в Москве издательство «Молодая гвардия» издать их отдельной книгой. Слава Богу, на дворе была перестройка, и писатели русской диаспоры уже выходили из прежней опалы.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа находится по адресу улица Лео-Лагранж во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа парижского региона
Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957 гг) уехал из России в 1921 г. в той первой волне высылок инакомыслящих, которую поднял лично Ленин. Новыми властями писатель-сказочник был объявлен «религиозным мистиком» и, если впоследствии упоминался в советской критике, то только с этим ярлыком и еще с уточнением: «Употреблял архаичную лексику». Пошла за ним эта репутация после того, как в 1907 г. вышла его книга старинных преданий и апокрифов под мудреным названием «Лимонарь, сиречь Луг духовный». И автобиографию свою он назвал «Подстриженными глазами». Русский язык Ремизова, однако, был чист, как родниковая вода. Ему претил советский «новояз». Вот несколько строк из его «Зайца»:
«Созвал Бог всех зверей полевых, луговых и дубравных, и слонов, и крокодилов, поставил перед ними миску, а в миску положил небесную сладкую пищу: разум.
— Разделите, звери, кушанье себе поровну.
Звери и стали подходить к миске — кто рогом приноравливается, кто клыком метит, кто хоботом нащупывает: всякому ухватить лестно небесную сладкую пищу…»
Обращение его к тибетским сказкам не случайно. Ремизов искал корни русской цивилизации в арийской, в ведических мифах и преданиях. «Ремизов, — писал о нем в своей книге о русской литературе в эмиграции Ю. Терапиано, — отличался глубоким знанием древнерусской письменности и народного фольклора. В сказках, легендах и преданиях любого народа он умел находить скрытый смысл, как в области вечной темы о любви, о жизни и смерти, так и в сфере инобытия…». Не исключено, что о тибетских легендах, записанных исследователем Г.Н. Потаниным, с которым Ю. Диомидов дружил, Ремизов как раз и узнал от отца Марины.
Удивительны судьбы рукописей. Они и впрямь не горят. Не горят, наверное, потому, что у Слова несколько жизней. Возьмите вот эти стихи Николая Гумилева.
НАСТУПЛЕНИЕ
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.
Для белой гвардии они были тем же, что для коммунистов в Великую Отечественную стихи А. П. Межирова «Есть в военном уставе такие слова…».
«Наступление» приводилось, в советские времена в качестве прямого подтверждения причастности поэта к контрреволюционному заговору профессора Таганцева, за что Гумилев и был расстрелян петроградской ЧК в августе 1921 года. Независимо от того, участвовал Гумилев в нем или нет, — в 80-е годы вроде бы было доказано, что нет, — его стихи стали работать во время Второй мировой войны уже не против большевиков, а за них, звали на бой с гитлеровцами. То же самое произошло и со многими бывшими противниками Советской власти в тот тяжкий час испытаний для нашей Родины. Дориомедов, отец Марины, был дворянином и никакой симпатии к Советам не испытывал, но свою сторону в войну выбрал без колебаний и умер в борьбе против общего для нас врага России.
По всей черно-белой логике вроде следовало бы ожидать, что белая гвардия стройными рядами встанет под штандарты «третьего рейха» и пойдет «освобождать Россию» от большевиков. Но получилось не так. Лишь небольшая часть русской эмиграции — казачьи атаманы Шкуро и Краснов, ветераны Дикой дивизии воевали с Красной армией в частях гитлеровского вермахта и в армии предателя Власова. Но за это их в русской эмиграции презирали. Патриотизм русских людей оказался выше классовой ненависти. Вчерашние белогвардейцы уходили в маки и армию генерала де Голля, возвращались, если могли, на родину, чтобы — неважно на каких условиях — сражаться в Красной Армии, разгромившей их в гражданскую. Князь Михаил Федорович Романов, сын родной сестры Николая II принцессы Палей, родился в эмиграции, во Франции. Мы познакомились в Париже и дружили домами. Как-то он рассказал мне, что ушел в «маки» под фамилией «Романо», т. к. фамилию Романов доминировавшие в маки коммунисты не принимали на дух. А он, родной племянник Николая II, сражался до конца войны с гитлеровцами вместе с красными!
Для большинства русских патриотов, оказавшихся в эмиграции, и особенно их детей, борьба с фашизмом, помощь Советской России были единственным возможным выбором в те годы. Даже генерал А. И. Деникин отказался от предложений фюрера возглавить новую добровольческую армию из белогвардейских недобитков и новоявленных предателей. Всю войну держал он «глухую оборону» в своем домике в городе Мимизан под Бордо. Вот что рассказывал мне наш бывший торгпред во Франции К. К. Бахтов, который в 1941 году оказался в командировке в Виши:
«16 июня 1941 года в наше посольство пришел князь Волконский. Он сказал, что, хотя и был противником Советской власти, сейчас готов защищать свою Родину как рядовой солдат Красной армии. Князь рассказал, что военный комендант Парижа предложил ему стать «диктором киевского радио» после оккупации Украины фашистами и сказал, что Германия начнет войну против СССР 22 июня. Волконский от должности сразу не отказался, чтобы не угодить в концлагерь, попросил разрешения подумать, но после беседы в советском посольстве сразу же через Испанию выехал в Англию». Князь Волконский был не единственным русским дворянином в Сопротивлении…
…Христофоров останавливается у могилы с пропеллером, выбитым на надгробии. Еще — пропеллеры, а над ними русские имена. Странно распорядилась история. Где-то в далекой России остались навечно лежать французы — летчики из славной эскадрильи «Нормандия — Неман». А здесь русские летчики, воевавшие во французских частях, но против тех же гитлеровцев.
«Владимир Поляков» — надпись на французском языке звучит как «Полякофф». «Это, знаете, отец актрисы Марины Влади, жены Владимира Высоцкого, — говорит подошедшая к нам активистка комитета русского кладбища. Представилась она только по имени-отчеству — Татьяна Борисовна. — Он был летчиком-добровольцем еще в Первую мировую, попал сюда с Русским экспедиционным корпусом. Тут и остался…» Полная его фамилия — Поляков-Байдаров. Немцы, оккупировав Париж, искали его, так как знали, что он изобрел устройство для быстрого снижения скорости самолета в полете. Ему сулили богатство, большие чины в «третьем рейхе». Он сжег чертежи, чтобы ими не завладели фашисты и сбежал на юг Франции, а оттуда к де Голлю.
Потрясающе переплетаются судьбы выходцев из России. Рядом с могилой Полякова — надгробие генерала французской армии, участника Иностранного легиона Зиновия Пешкова, приемного сына Максима Горького. Он — родной брат цареубийцы, председателя Совнаркома Якова Свердлова. От его могилы до могилы князей Романовых Андрея и Владимира — несколько шагов. И при жизни, и после смерти он оказался куда ближе к ним, чем к своему родному брату и даже своему приемному отцу.
Неподалеку от кладбищенской церкви Успения Пресвятыя Богородицы, построенной архитектором А. А. Бенуа в 1939 году, — небольшая часовенка, напоминающая семейный склеп. На могильных камнях с пожелтевших фотографий смотрят молодые лица. В первом ряду — княгиня В. А. Оболенская. «Вики», «красная княжна», участница Сопротивления. Ее арестовали фашисты в декабре 1943 года. Пытали страшно. 4 августа 1944 года в возрасте 33 лет ей отрубили голову в берлинской тюрьме Плетцензее. 18 ноября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР В. А. Оболенская посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.
Этим же Указом и тоже посмертно был награжден медалью «За боевые заслуги» потомок великого Александра Радищева Кирилл Радищев, руководивший в годы оккупации в Париже антифашистской группой русской молодежи «Мщение».
… Прошло уже много времени после того, как в «Правде» я рассказал об этом русском кладбище. И вдруг незадолго до Дня Победы 1989 года мне позвонил шеф парижского отделения Аэрофлота Р. Г. Глушков и сказал: «Приезжай, привез тебе из Moсквы посылку с пометкой «Срочно». Посылка была необычная — искусственные гвоздики да лента, на которой по красному шелку золотыми буквами написано: «Вике Оболенской от соотечественниц». Приложенное письмо все объяснило. Писали мне ветераны войны В. Д. Бабурина и Л. П. Гончарова: «С большим волнением прочли вашу статью «Русские березы под Парижем», в которой говорится о судьбе наших соотечественников, захороненных на русском православном кладбище в городке Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Особенно нас потрясла трагическая биография участницы Сопротивления В. А. Оболенской («Вики», «красной княжны»). Ее судьба нам очень близка и не безразлична, так как мы сами в годы Великой Отечественной войны сражались в рядах партизан. Преклоняя головы перед подвигом наших соотечественников, мы просим вас от нашего имени возложить цветы на могилу В. А. Оболенской. К сожалению, у нас нет возможности послать живые гвоздики…»
В тот же день я поехал в Сен-Женевьев-де-Буа. Долго раздумывал, как быть: куда возложить присланные из Москвы цветы? Ведь дело в том, что на этом кладбище у В. А. Оболенской две символические могилы. (Где настоящая — под Берлином? — неизвестно.) На одной — надгробие с ее портретом, а рядом захоронены те потомки родовитых русских дворян, которые вместе с ней сражались в рядах Сопротивления. Имя лейтенанта французской армии В. А. Оболенской выбито и на надгробии ее мужа, священника Николая Оболенского, который также сражался в Сопротивлении, но умер сравнительно недавно, в 1979 году. Он, кстати, захоронен рядом с Зиновием Пешковым. Цветы я положил все же у первой могилы — вроде как всем юным подпольщикам сразу.
На могильных плитах захоронения «русской молодежи, погибшей в рядах Сопротивления», все надписи на французском. По-русски нет ни слова, как и упоминания о советских посмертных наградах. Христофоров объясняет это прозаически: «Дорого, знаете, по-русски. Французы берут за русские буквы в три раза дороже. А у нас средств нет…»
Как же мне было горько, зная о русских дворянах-героях Сопротивления, читать много лет спустя после моего возвращения из Франции статью политического обозревателя «Парламентской газеты» С. Веревкина «Другие» русские» («ПГ», 18.5.2006), в которой автор (он, увы, в России теперь не одинок) попытался обелить задним числом и власовцев, и других выходцев из России, воевавших против нас вместе с гитлеровцами. Перечислив известные преступления сталинского режима против русского народа и других народов СССР, этот власовец от журналистики попытался убедить читателя будто перебежчик Власов и его армия предателей… вели гражданскую войну против Советской власти и теперь в России демократической заслуживают реабилитации и восстановления в правах. Вот здесь у парламентского обозревателя ошибочка вышла. Он не понял главного: никогда идеологические и прочие расхождения с властью и отдельными правителями не оправдывают предательства Родины и своего народа. Борьба против правителей, тем более тиранов, вполне допустима. Пособничество тем, кто хочет поработить твою Родину и уничтожить твой народ, а у Гитлера были вполне конкретные планы массового истребления русских и других славян в гигантских концлагерях за Уралом, нельзя ни оправдать, ни простить. Оказавшиеся во время войны в эмиграции русские дворяне и разночинцы в массе своей это понимали и на предательство не пошли. Автор «Парламентской газеты» шестьдесят с лишним лет спустя после победы над Гитлером этого не только не понял, но и предал своей публикацией память таких русских патриотов, как Вика Оболенская и ее друзья. Позор вам, господа власовцы от журналистики! Позор!
… «Блаженны изгнани правды ради» — эта библейская цитата выписана белым по черному граниту. А рядом с ней знакомое, гремевшее у нас в 60-е годы имя — Александр Аркадьевич Галич (19.XI.1919—15.ХИ.1977). Цитата из Библии выбрана точно. Галича, известного сценариста и поэта, поначалу лишили доступа к печати и кино, запретили выступать с концертами, а потом изгнали из нашей страны именно те, о ком он пел в своих «крамольных» по тем временам песнях. На Западе Галич тоже себя не нашел. Был слух, что разочарованные в нем мастера «психологической войны» против СССР подсунули ему в подарок аппаратуру, включив которую, Галич погиб. Но, пойди, докажи. При довольно странных обстоятельствах погибла в 1986 году и его вдова Ангелина Николаевна. Оба они захоронены в Сен-Женевьев-де-Буа в чужой могиле некой Магдалины Голубицкой.
Еще одна могила «третьей волны», совпавшей с тем периодом, что обозначается сейчас термином «годы застоя». Виктор Платонович Некрасов (17.VI.1911 — 3.IX. 1987). Автор повести «В окопах Сталинграда», фронтовик. Как у него «не сладилось», по чьей воле он оказался в эмиграции в Париже, когда-нибудь напишут подробнее и у нас. Довольно долго, как и семья Галичей, он покоился в чужой могиле — не известной никому дотоле Ромы Семеновны Клячкиной. Потом почитатели его таланта все же нашли деньги и на землю для него на том же кладбище, и на памятник.
В чужую могилу — земля в Сен-Женевьев-де-Буа стоит дорого — опустили здесь и кинорежиссера Андрея Тарковского — классика, как давно это уже ясно, не только советского, но и мирового кино. Только в 1988 году создателя «Андрея Рублева» и «Ностальгии» перезахоронили, положили в отдельную могилу, вырытую на субсидию французского правительства. Из СССР ни на первые, ни на вторые похороны не поступило ни франка.
Одна из последних песен Галича называлась «Когда я вернусь…». Ни он, ни Тарковский, ни Некрасов не вернулись. Не успели. А я задаю себе вопрос: захотели бы? Ведь вернулись далеко не все из эмигрировавших в советские годы диссидентов даже после развала СССР. Про Галича можно сказать точно: вернулся бы. Его дочь А. Архангельская-Галич прислала мне в «Правду» такое письмо: «Направляю вам текст магнитофонной записи высказываний отца, сделанный за день до его отъезда (23 июня 1974 года). Думаю, ознакомление с ними снимет любые сомнения насчет того, вернулся бы Галич на родину и с кем был бы сейчас. Вот этот текст:
«Мне все-таки уже было под 50. Я уже все видел. Я уже был благополучным сценаристом, благополучным драматургом… И я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Кончилось это довольно печально, потому что, в общем, в отличие от некоторых моих соотечественников, которые считают, что я уезжаю, я ведь, в сущности, не уезжаю. Меня выгоняют. Это нужно абсолютно точно понимать.
Добровольность этого отъезда, она номинальна. Она фиктивна, она, по существу, вынужденная. Но все равно. Это земля, на которой я родился. Это мир, который я люблю больше всего на свете. Это даже «посадский, слободской мир», который я ненавижу лютой ненавистью и который все-таки мой мир, потому что с ним я могу разговаривать на одном языке. Это все равно то небо, тот клочок неба, большого неба, которое накрывает всю землю. Но тот клочок неба, который мой клочок.
И поэтому единственная моя мечта, надежда, вера, счастье, удовлетворение в том, что я все время буду возвращаться на эту землю. А уж мертвый-то я вернусь в нее наверняка». Читаешь и думаешь: «Господи, за что!» Конечно бы, он вернулся… Да он от нас, по сути, и не уходил…
Думаю, и Тарковский вернулся бы, хотя гадать трудно, да и не нужно. Ибо значение Тарковского в мировом, как и русском, искусстве определяет не гражданство. Некрасов в эмиграции ожесточился. Но все же незадолго до смерти написал теплое письмо в свою любимую «Юность», опубликовавшую его повесть…
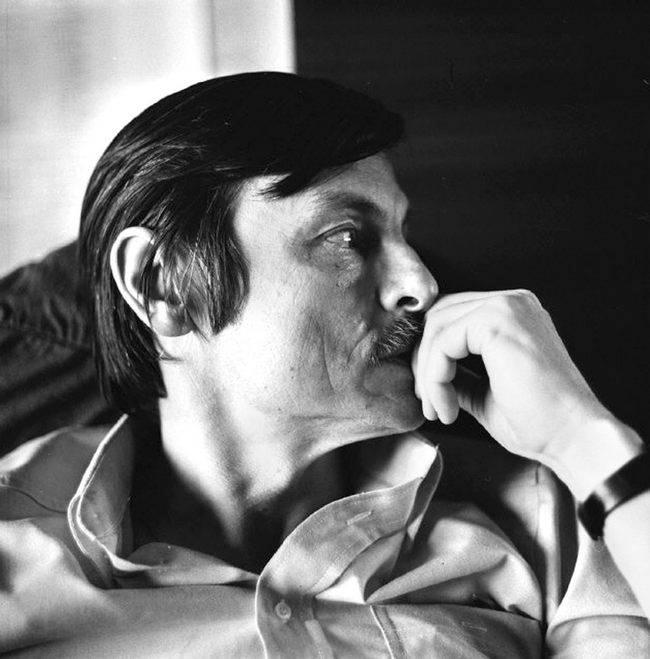
«Мы не созданы для счастья, есть вещи важнее, чем счастье».
(А. Тарковский)
У самого входа на русское кладбище — могила писателя Владимира Емельяновича Максимова, главного редактора литературного журнала «Континент», самого значительного в послевоенной истории русской эмиграции. В начале 80-х он возглавлял «антибольшевистский блок», «интернационал сопротивления», базировавшийся в Париже, под штандартами которого проходили все антисоветские выступления тех лет. Поначалу он с радостью воспринял перемены в СССР, но после его развала выступил против демократов из команды Ельцина-Гайдара и стал постоянным автором «Правды».
В нашем последнем интервью, которое «Правда» начала публиковать в трех номерах незадолго до его смерти, я спросил Максимова: «Вы не жалеете ни о чем, вспоминая все эти акции «Интернационала сопротивления»? Ведь, так или иначе, они способствовали развалу СССР».
Он ответил так:
«Вы можете прочесть все мои труды, перелистать все изданные мной журналы и убедитесь, что я никогда не выступал против России. Я выступал против идеологии. Я считал, что это — единственный груз, который мешает России развиваться, становиться более великой, могущественной страной. Это была моя большая и трагическая ошибка. И о ней на старости лет я весьма сожалею. И все же я думаю, что, если бы нам шаг навстречу был бы сделан вовремя, обошлось бы без таких потерь.
Какой-то заколдованный круг в России. Человеческий материал все тот же. Даже лозунги те же. «Кто не с нами, тот против нас». Вот запугивают приходом фашизма. Но и Сталин также запугивал. И Ленин пугал, что вернутся старые порядки. Демократы во всем повторяют большевиков. И в частности, и в общем. Я не знаю, какой выход из положения…»
30 марта 1995 года, в парижском соборе Александра Невского состоялась прощальная панихида. Один за одним проходили люди у его гроба, кланяясь низко, по-русски. Я встал у его гроба на колени, будто по велению свыше. Я просил у него прощения за все и за всех тех, с кем волею судьбы оказался и в одной редакции «Правды», и в одной коммунистической партии. Из храма гроб с телом Владимира Максимова повезли на русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Так случилось, что гробовщиков не хватило — их было только трое, а из родственников успели к кладбищу подъехать только женщины. И я нес гроб Владимира Емельяновича к его последнему пристанищу, все еще не веря, что больше он уже никогда мне не позвонит и не спросит по своему обыкновению: «Ну, как дела? Что нового в России?»…
Литература эмиграции «третьей волны» — явление сложное. Лучшее, подлинно патриотическое в этой литературе останется жить надолго и придет к нашему читателю. Остальное канет в небытие.
Понимание того, что и белогвардейцы были не «вроде бы русскими», как в стихах Р. Рождественского о кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа, а русскими на все сто процентов, в России пришло. Это главное, ибо вместе с этим пришло осознание возможности союза русских по этно-историческому принципу в интересах зашиты русской государственности независимо от идеологических разногласий.
… Мне запомнилось, как мы стояли рядом у русских могил в Сен-Женевьев-де-Буа. Трое русских. Татьяна Борисовна рассказывала, как она, родившаяся и выросшая здесь, во Франции, и своим детям передала любовь ко всему русскому. Вроде бы формально они уже французы, у них — французские фамилии, а часто и имена. «Но кровь наша — сильная, — говорила она. — Россия к себе их, как магнит, притягивает». Да и ее отец вместе с Христофоровым воевал против красных в рядах Белой армии. Его могила тут же, в Сен-Женевьев-де-Буа. Но Татьяна Борисовна искренне была убеждена, что и красные, и белые просто не поняли друг друга, хотя и воевали, по сути, за одно и то же — за лучшую жизнь для народа России.
Я не спорил с ней. И не спорил с Христофоровым, потому что он, когда-то врангелевский офицер, а затем — французский гражданин, душой болел за нашу с ним общую родину, которую не выбирают, которая всем нам — мать. Я мог сказать ему только спасибо за то, что он и еще девять человек рабочих, занятых на кладбище, его комитет поддерживали в таком образцовом порядке русские могилы на чужбине. Вскоре и Христофоров был похоронен в одной из них. Он тоже стал, пусть маленькой, но частью истории русской диаспоры, а значит, и истории России, которую нельзя поделить на части, что-то взяв, от чего-то отказавшись. Она — цельная, какая есть, и никуда от нее не уйдешь. Чтобы нация умела познать самое себя, эту историю надо тщательно и именно во всей ее целостности сохранить.
Потребность в этом жила в самой русской нации изначально, несмотря на все революции и контрреволюции. Я помню, какой поток писем в «Правду» вызвала моя статья «Русские березы под Парижем» о кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа. Ведь тема была запретной вплоть до конца 80-х годов. Это теперь русские церкви и кладбища во Франции и других странах стали местами паломничества русских туристов, а в те времена за это можно было стать мертво невыездным. Ведь вплоть до развала СССР в руководстве нашей страны были люди, которые считали, что только советский паспорт можно считать свидетельством русского патриотизма и никак не хотели поверить, что русским патриотом в равной степени могут быть и монархист, и коммунист. Слава Богу, мы примирились и не стали делить русские могилы на «приемлемые» для нас и неприемлемые.
Бывая во Франции, я всегда стараюсь съездить в Сен-Женевьев-де-Буа. Там по-прежнему тихо шелестят березы над русским кладбищем. Покачивает ветер колокола на звоннице прикладбищенской церкви. Пахнет сырой землей, ладаном, Россией. У всех нас она одна.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК