Детские дома и детоубийство
Единственной женщиной, которая поддерживала его интерес в течение многих десятилетий, хотя он никогда не любил ее по-настоящему, была маленькая парижская прачка Тереза Ле Вассер, милая, но совершенно неважная малышка, которая даже не получала прибыли от их флирта. Она вела для него хозяйство и постепенно приводила в дом всех своих родственников (Жан-Жак Руссо был не единственный великий человек, который пострадал таким образом). Как только он узнал ее, он сказал ей, что он никогда не оставит ее, но не женится на ней, и он сдержал свое слово по обоим пунктам. Она так и не стала его законной женой, хотя в конце своей жизни он провел с ней домашнюю церемонию бракосочетания, свидетелями которой были его друзья.[118]
Его отвращение к регистраторам и церковным бракам может быть объяснено его философскими взглядами, что любовь — это частное дело, которое не касается никакой власти. Но Руссо применил этот принцип и другим способом, который мир воспринял очень болезненно. Тереза Ле Вассер родила ему пятерых детей, и все пятеро, по его приказу и против воли матери, были отданы в приют для подкидышей, причем отец даже не видел их.
Руссо пишет в своих признаниях, что у него не было никаких угрызений совести в этом, потому что это было самое лучшее для детей: «я считал себя гражданином и отцом, и я считал себя членом Республики Платона». Достаточно легко обвинить его в нарушении его собственного учения, потому что его моральные и сексуальные доктрины полностью отличались от тех, которые были у Платона в коллективном состоянии будущего. На самом деле, однако, поведение Руссо не было чем-то исключительным в то время для человека его положения и в его неустойчивых экономических обстоятельствах, и уж конечно, не случайно ни его друзья, ни многочисленные враги не имели ничего против этого.
Практика оставлять новорожденных детей, как законных, так и незаконных, вне приютов для подкидышей стала очень распространенной во Франции в XVIII веке. У нас есть точные данные об этом. По словам Буффона, число детей, оставленных в течение года в парижских приютах, выросло с 3233 в 1745 году до 5604 в 1766 году. В 1772 году в Париже родилось 18 713 детей, а 7 676 остались в приютах. Даже если (как показывает полицейский отчет) около 2000 детей прибыли из сельских районов, где не было приютов для подкидышей, все же остается поистине удивительным, что примерно одна треть всех детей, родившихся в Париже, были покинуты их родителями и предоставлены заботам общественной благотворительности.[119]
Процедура была сделана необычайно легкой для родителей. Младенец был помещен на осмотр, в поворотный ящик у двери приюта для подкидышей, и сразу же был принят; именно така акушерка поступила с детьми Жан-Жака Руссо. Но также можно было открыто передать ребенка, и никто не спрашивал имён родителей. Родители, которые были довольно черствыми или чрезмерно нервными, всё ещё следовали варварскому обычаю Средневековья и выставляли своих детей, часто в сильный холод, перед церковными дверями и больницами, где они иногда умирали, прежде чем кто-либо обращал на них внимание. Энциклопедист д'Аламбер был подкидышем, которого, к счастью, подобрали живым перед порталом Нотр-Дам.
Приюты для подкидышей не были специально французским учреждением. Они существовали в древности, а в Средние века были распространены по всей Европе. В северных странах, однако, они вскоре приняли на себя характеристики детских домов, и больше внимания было уделено формальностям. С другой стороны, в латинских странах приют для подкидышей сохранил свой первоначальный характер вплоть до наших дней — это место, где родители, не способные или не желающие воспитывать своих новорожденных детей, могут оставить их без каких-либо имен и не подвергнуться никакому юридическому наказанию. Помимо чисто благотворительных мотивов, теперь существовали соображения демографической политики, которые делали государство чрезвычайно либеральным в этом отношении.
В XVIII веке, как и в XVII, государства изо всех сил старались увеличить свое население и не хотели, чтобы будущие солдаты ускользали от них.
Нет нужды говорить, что методы, с помощью которых бедные или бессовестные родители избавлялись от своих детей во времена Руссо, нарушают моральные каноны сегодняшнего дня и что даже тогдашние приемы уже не рассматривались бы как решение проблемы социальной или демографической. Для своего возраста, однако, они, несомненно, были благом и предотвратили многие худшие последствия морали того времени.
В легкомысленной Франции Людовика XV и даже в последние десятилетия перед Французской революцией мы почти никогда не слышим о детоубийстве или самоубийстве незамужних матерей, выбирающих этот путь спасения от своего «позора». Немецкая литература того же возраста, с другой стороны, полна этих тем. Друг детства Гете, прибалтийский немецкий поэт Ленц, рассматривает эту проблему в двух своих пьесах, Der Hofmeister (1774) и Die Soldaten (1776). Сам Гете считал эту тему настолько важной, что заставил Фауста вращаться вокруг неё. Судьба Гретхен не была плодом воображения поэта. Это была острая и животрепещущая проблема, над которой ломали голову педагоги и врачи, не находя практического решения. Попытки ввести французскую систему были предприняты в Гессене и Дании, но встретили противодействие. Их оппоненты говорили, что они ставят на первое место моральную распущенность. Так что осталась только старая максима: «соблазняй не бедных девушек, а наказывай соблазнителя» — и это не помогло.
Во Франции, как раз перед тем, как опустился занавес, поднялся великий сатирик, который в последний раз показал лордам старого режима их истинные лица. Пьер-Огюст Карон, более известный в литературе под именем Бомарше, был ещё менее приспособлен, чем Руссо, своим собственным примером предписывать кодексы морали миру. Он был авантюристом большого масштаба, и до того, как он написал Le Mariage de Figaro ("Женитьба Фигаро"), у него была за плечами жизнь с разнообразным опытом, который включал в себя ряд деликатных дел с женщинами. Однако он вложил столько остроумия и изящества в свою критику общества, что даже его жертвы слушали и смеялись. Его главным упреком в адрес великих лордов была их привычка соблазнять бедных девушек на службе. Дело было не только в том, что они претендовали на jus primae noctis (право первой ночи), прерогативу лишать девственности невесту — Лопе де Вега осудил это оскорбление на испанской сцене двумя столетиями ранее, и вероятно, что немногие помещики во Франции всё ещё практиковали его — но, что ещё хуже, если их взгляд падал на хорошенькую горничную, они вообще запрещали ей выходить замуж.
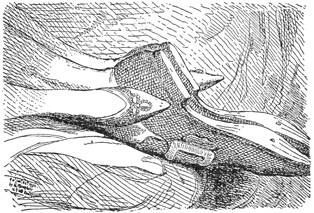
Любовная сцена.
Рисунок из сатирической брошюры
Джеймса Гиллрея о морали при английском дворе
Бомарше проиллюстрировал эту форму половой тирании через историю пресыщенного графа Альмавивы, хитрой горничной Сюзанны и находчивого камердинера — цирюльника Фигаро. Из осторожности он перенес действие в воображаемую Севилью, которая, однако, имела поразительное сходство с Парижем времён Марии-Антуанетты. Естественно, добродетель восторжествовала, а вместе с ней и tiers etat[120] — миллионы простых мужчин и женщин, которые не хотят ничего лучшего, как пережениться между собой и быть оставленными в покое дворянством. Из множества пьес, написанных в XVIII веке на тему соблазнения и невинности, Le Mariage de Figaro («Женитьба Фигаро»), пожалуй, в сущности наименее правдива, особенно когда вспомнишь, кто был её автором. И все же он попал в цель: никогда ещё важные господа в партере не слышали так много острых истин, обращенных к ним со сцены. Тем не менее, они всё ещё чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы принять все это как шутку и поаплодировать.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК